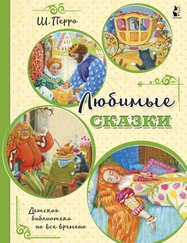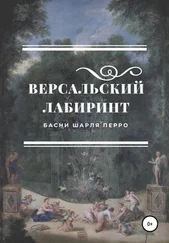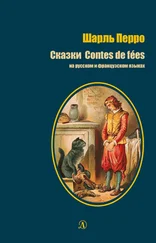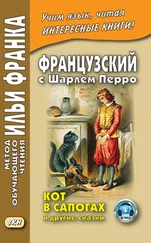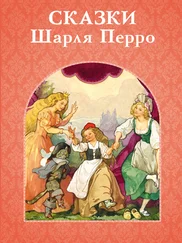Очень остроумное объяснение сказки дает Сентив(стр. 245–318, 347–349; на стр. 319–347 Сентивтакже рассматривает сказку Арне-Андреев, № 700). Сравнительно с другими сказками сказка о Мальчике-с-пальчик является действительно показательным образцом сказки, возникшей на ритуальной основе. Сентиввидит в ней как бы комментарий к обряду инициаций, посвящения юношей. Мы видим в сказке испытание мужества, силы, ловкости, видим прославление уменья расправиться с врагом, избежать опасности и пр.; характерна такая деталь, как уменье находить дорогу — определенное требование к посвящаемым юношам. В частности, одним из признаков зрелости являлось ношение обуви (юноши ходили босиком); отсюда, как полагает Сентив, значение семимильных сапог в сказке. Людоед является изображением врага, может быть — каннибала, противника участников инициаций. [Ср. еще ряд аналогичных соображений в работе С. Я. Лурье. Дом в лесу. Язык и литература, т. VIII, Л., 1932, стр. 159–193; однако С. Я. Лурьене хочет „утверждать, что в этих“ сказках мы должны видеть только комментарий, только ιέρoξ Λоγок обряду, хотя, разумеется, и такое происхождение в отдельных случаях весьма возможно“ (стр. 191). Думаем, что это осторожное заключение совершенно правильно.]
Арне-Андреев, 887.
R. Kӧhler. Kleinere Schriften, II, с. 537–551.
Ilse von Stach. Griseldis. 1922.
Käte Leserstein. Der Griseldisstoff in der Weltliteratur. Weimar, 1926.
Сюжет этой новеллы стал знаменитым благодаря Боккаччо, включившему его в состав „Декамерона“ (10-я новелла X дня). Петрарка, восхищенный новеллой Боккаччо, перевел ее с итальянского на латинский язык. Перро, конечно, знал новеллу Боккаччо, но ему известно было также иное изложение того же сюжета (впрочем, также опирающееся на „Декамерон“), а именно дешевое, народное („лубочное“) издание. Он пишет в ответ своим критикам: „Если бы я послушался всех различных указаний, какие давались мне по поводу посылаемого вам произведения, от него остался бы только совершенно сухой и очень простой рассказ; а в этом случае я лучше сделал бы, если бы совсем не трогал его и оставил бы его в голубых листках [лубочных], где он существует много лет“. Известно, например, издание середины XVI века: „Miroier des femmes vertueuses. Ensemble la patience de Grieselidis par laquelle est démontrée l’obéissance des femmes vertueuses“. Lyon, MDXL1. В издании XVII века новелла называется несколько иначе: „Le miroir des Dames, ou la Patience de Griselidis autrefois marquise de Saluces, où il est montré la vraie obéissance que les femmes vertueuses doivent à leurs maris“. От Боккаччотакже идет мистерия „Le mystère de Griselidis par personnages“, восходящая к 1395 году.
Сам Боккаччо, возможно, пользовался в качестве источника для своей новеллы устной традицией. Указывают на аналогичный (однако все же своеобразный) сюжет в творчестве Марии Французской (Marie de France. Lai del Freisne, XII век). Однако в устной традиции сюжет „Гризельды“ особенной популярностью не пользуется, и многие тексты, записанные в устной передаче, восходят к Боккаччо. Отметим, между прочим, русский текст ( Афанасьев. Народные русские сказки, № 193) и украинский ( В. Лесевич. Оповиданя Чмихала. У Львовi, 1903, стр. 179–181, № 24); чешские тексты см. В. Тилле [29] V. Tille . Soupis ceskÿch pohádek. Y Praze, 1929, стр. 397–401.
, словацкие — Ю. Поливка [30] J. Polívka . Súpis slovenskÿch rozprávok IV. V Turcianskom sv. Martine, 1930, стр. 257–261, № 101.
.
Повидимому, приписывать сюжету, Гризельды“ особенно древнее происхождение нет оснований. Лефевр (стр. LXXVIII–LXXIX) заявляет, что „Гризельда“ не представляет мифологического интереса. Правда, А. де-Губернатис (A. de Gubernatis) видит основу новеллы в одном из эпизодов „Магабхараты“ („Mythologie zoologique“ I, стр. 74–75). но связь здесь весьма сомнительна: в „Магабхарате“ речь идет о чудесной жене, муж которой никогда не должен говорить ей ничего неприятного.
Сентив(стр. 537 г-557) приходит к выводу, что сюжет „Гризельды“ связан с обрядовыми свадебными плачами и является своего рода элементом обряда инициаций в момент брака. Малочисленность вариантов он объясняет тем, что женщипы не имели особенной охоты распространять подобный рассказ (однако свадебные причитания распространялись?), и сюжет перешел в руки церковников, придававших ему моралистический характер.
Перро напечатал „Гризельду“ впервые (без своего имени) в 1691 г. В первом издании имя героини писалось „Griselde“, позднее „Griselidis“. Перро писал по поводу имени своей героини в конце сопроводительного письма, адресованного „А monsieur ***: „Вы, может быть, удивитесь, что я даю маркизе Салюсской имя Гризельды, а не Гризельдис, известное всему миру, настолько известное, что выражение „терпенье Гризельдис“ стало поговоркой. Скажу вам, что я сделал это вослед Боккаччо, первому автору этой новеллы, который ее так именует. Имя Гризельдис показалось мне несколько измазанным руками простонародья, а кроме того имя Гризельда легче употреблять в стихах“. Впоследствии Перро изменил имя героини и в связи с этим опустил и приведенное место письма. В позднейших изданиях есть также ряд незначительных изменений в тексте сравнительно с первым (эти разночтения приводит в своем издании Лефевр, стр. 155–158).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Шарль Перро Сказки [для взрослых] обложка книги](/books/386227/sharl-perro-skazki-dlya-vzroslyh-cover.webp)
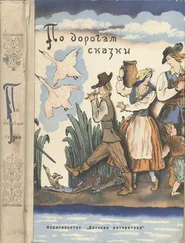
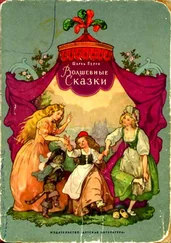

![Шарль Перро - Волшебные сказки Перро [Совр. орф.]](/books/400033/sharl-perro-volshebnye-skazki-perro-sovr-orf-thumb.webp)
![Шарль Перро - Сказка за сказкой [Совр. орфография]](/books/402151/sharl-perro-skazka-za-skazkoj-sovr-orfografiya-thumb.webp)