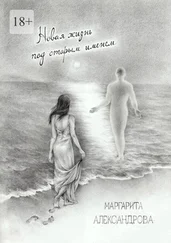— Да, это она,— дрогнувшим голосом промолвил Изотоп.— Мы с братом решили передать ее в Оружейную палату. Она этого заслуживает.
— Нисколько не сомневаюсь,— кивнул Артынов.— Скажите, Иван Маркелович, у основания клинка едва заметно клеймо: фигурка соболя в прыжке. Это и есть «старый соболь»?
— Думаю, что ему не менее двух столетий,— взволнованно произнес Изотов.— Старинное уральское клеймо. Его ставили на первых отливках металла, который шел в Англию с, демидовских заводов. Соболь прославил русские меха. Металл с его клеймом принес России не меньшую славу. Клеймо прижилось, стало традиционным.
— А мастер, отковавший саблю, остался безымянным? — спросил Алябьев.
— Единственное, что мы знаем: его звали Данила-кузнец. Мой земляк, коренной златоустовец. Редкий умелец, можно сказать, самородок.
— Казюк,— выдохнул Алябьев, вспомнив, как некогда после штурма Зимнего разыскал Ивана в Малахитовом зале.
— Да,— кивнул Изотов, чуть отступая и пристальна разглядывая Семена Максимовича.— Простите, но у меня такое ощущение, что мы уже где-то виделись? Впрочем, я мог ошибиться.
— Нет, Иван Маркелович, вы не ошиблись,— ответил Алябьев.— Но, если не возражаете, я вечером подъеду к вам.
Изотов черкнул на листке бумаги адрес и протянул его Семену Максимовичу.
— Непременно приезжайте. Буду ждать.
IV
Переговорив с Артыновым, Семен Максимович направился к Ивану Изотову. Дверь ему открыла женщина, средних лет, с туго заплетенными в корону седеющими косами и застенчивой, немного детской улыбкой.
— Скажите, пожалуйста, я могу видеть Ивана Маркеловича Изотова? — спросил Алябьев.
— Можете,— засмеялась женщина.— Это как раз редкий случай, когда он не в командировке.
— Ну, значит, мне повезло,— признался Алябьев, протянув ей цветы.
— Алена Дмитриевна, ты уж постарайся, чтобы наш гость не скучал,— обратился Иван к жене.— Гриша, ты ближе сидишь, обеспечь товарища всем необходимым.
— С превеликой радостью,— пробасил оказавшийся рядом с Алябьевым широкоплечий мужчина, судя по ухваткам, силы необыкновенной.
Семен Максимович выпил первую стопку за хозяев дома и пожелал им всего наилучшего.
— Он один из тех, кто обезвредил Арефьева и отыскал саблю,— шепнул Кириллу Иван Маркелович.
— А я вам так скажу, дорогие товарищи,— вернулся к прерванному разговору сосед Алябьева за столом, Гриша,— хоть фашистский фюрер перед нашим правительством лисой вьется, он волк, и веры ему не будет ни на столечко. Так что пакт — пактом, а запоры на границе надо держать из самой прочной стали.
— Разрешите мне сказать,— попросил Алябьев.
Ему приветливо улыбнулись: «Просим. Просим».
— Давайте помянем добрым словом наших верных боевых товарищей, погибших на фронтах гражданской войны, негромко промолвил Семен Максимович.— Прошло два десятилетия. Построили новые города, выросло новое поколение, сыны и дочери наших погибших товарищей сегодня с нами в одном строю. Но до последнего своего смертного часа мы будем помнить о тех, кто не дожил, не дошел, не долюбил,— как мы с вами, кто верил в нашу мечту и кто погиб за нее.
Голос у Семена Максимовича дрогнул, и он пристально посмотрел в глаза поднявшемуся из-за стола Ивану. Семен Максимович шагнул ему навстречу и торопливо, сбиваясь, заговорил:
— И за него, за незабвенного друга Степана Егоровича Шурыгина.
— Семен, это ты? — воскликнул Иван…
V
Он смотрел на проплывающие в окне вагона подмосковные дачные поселки. Как будто все успел. Друга повидал. С Артыновым многие вопросы решил. Штайнер не вышел на радиста. Ожегшись на Угрюмове, он или постарается затаиться, или покинет СССР. Интересно, что они предпримут с рацией в Гатчине?
В купе было душно. Алябьев повесил пиджак и вдруг вспомнил, что во внутреннем кармане письмо от Алеши Шурыгина. Дома он прочитал его в спешке, а сейчас решил обстоятельно, не торопясь, еще раз прочесть.
Алеша писал, что на работе у него все нормально. До защиты кандидатской диссертации остался месяц, и приехать летом этого года он вряд ли сможет, потому что еще одним Шурыгиным на земле стало больше. Сынок родился. Здоровенький. Четыре кило. Все время спит, а когда хочет есть — кричит. Назвали его Степаном, в честь деда. И через год, числа этак двадцатого или двадцать второго, Шурыгины всей семьей нагрянут в Ленинград.
— Ну что ж, так и пометим — 22 июня 1941 года,— с удовлетворением произнес Алябьев.
VI
Читать дальше