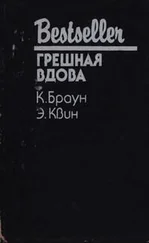В восемь часов он все еще был в халате и в домашних туфлях, непричесанный, с чересчур блестящими глазами. Он так ничего и не решил. Звонить Мадлен было невозможно. Она запретила ему это из-за прислуги. К тому же, она просто могла не желать его больше видеть. Возможно, ей тоже было страшно, ей тоже...
Он равнодушно побрился, оделся. А потом вдруг понял, что обязательно должен срочно повидать Гевиньи. Неожиданно ему потребовалась уверенность в том, что по желанию Гевиньи он сможет снова видеться с Мадлен. И сквозь окружающий его плотный туман ему блеснул луч надежды. Он заметил, что через неподнятые занавески пробиваются солнечные лучи. Погасил электричество и впустил в кабинет свет дня. В нем возродилась надежда просто потому, что была чудесная погода и война еще не кончилась. Он вышел, оставил для уборщицы ключ от квартиры под ковриком, приветливо улыбнулся консьержке. Все теперь ему казалось легким, и он готов был смеяться над своими тревогами. Конечно, он не изменился. Он всегда останется подозрительным, меланхоличным, робким. У него никогда не бывало полнокровных дней отдыха, морального равновесия. Вместе с тем, около Мадлен... Он постарался изгнать Мадлен из своих мыслей, чтобы снова не впасть в панику. Париж был залит солнечным светом, и Флавье медленно пошел пешком. К десяти часам он подошел к конторе Гевиньи. Тот только что приехал.
— Устраивайся, старина... Я сейчас. Скажу несколько слов своему помощнику...
Гевиньи выглядел усталым. Через несколько лет у него будут мешки под глазами и дряблые морщинистые щеки. Пятидесятилетие его не украсит. Флавье расположился на стуле. Возвращаясь, Гевиньи дружески хлопнул его по плечу.
— Завидую я тебе, знаешь,— сказал он. — Я бы сам с удовольствием все дни тратил на то, чтобы сопровождать красивую женщину, особенно если бы она была моей... А я живу просто как бродяга.
— Она же бросается прямо в глаза!.. Твоя жена сумела описать мне местность, которую никогда не видела, но которую, вероятно, знала Полин Лагерлак... Подожди! Более того... она описывала арены не такими, какие они сейчас, а какими были сто лет назад.
Гевиньи нахмурил брови, пытаясь понять.
— И что же ты думаешь?
— Ничего,— ответил Флавье,— пока ничего... Это было настолько необычно!.. Полин и Мадлен...
— Да брось ты! — оборвал его Гевиньи. — Мы живем в двадцатом веке, и ты не можешь утверждать, что Полин и Мадлен... Признаю, Мадлен много собирала сведений о своей бабушке... Но это ведь можно объяснить. Потому-то я и просил тебя помочь мне. Если бы я мог предвидеть, что ты пойдешь...
— Я предлагал тебе прекратить это занятие.
Флавье почувствовал, как между ними возникла сильная напряженность. Он немного подождал и поднялся.
— Не буду больше отнимать у тебя времени...
Гевиньи покачал головой.
— Сейчас значение имеет только спасение Мадлен. Будет она больная, сумасшедшая, экзальтированная, мне наплевать. Пусть только живет.
— Она сегодня выйдет из дома?
— Нет.
— В таком случае когда же?
— Завтра непременно... А сегодня я последую твоему совету и проведу весь день с ней.
Флавье не дрогнул, но в нем поднялась волна ненависти. «Как же я могу его ненавидеть! — подумал он. — До чего это отвратительно!»
— Завтра...— сказал он. — Не знаю, буду ли я свободен завтра.
Гевиньи тоже встал, обошел вокруг письменного стола и дотронулся до руки Флавье.
— Прости,— вздохнул он,— я грубый, нервный. Но это не моя вина. Ты в к'онце концов заставишь меня окончательно потерять голову. Вот послушай, сегодня я хочу привести один эксперимент. Начну говорить и готовить ее к Гавру, только совершенно не представляю, как она это воспримет. Поэтому никаких сомнений и колебаний: завтра ты должен быть свободен, чтобы оберегать ее. Я настаиваю на этом. А потом вечером ты мне позвонишь или придешь сюда. И расскажешь обо всем, что в ней заметил. У меня полное доверие к твоему мнению. Решено?
Где Гевиньи научился говорить таким голосом, убедительным, прочувствованным?
— Да,— ответил Флавье.
Он негодовал на себя за это «да», которое предавало его во власть Гевиньи, лишало собственной инициативы.
— Спасибо... Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал.
— Я убегаю,— стыдливо пробормотал Флавье. — Не беспокойся, я знаю дорогу.
И снова потекли его пустые, смертельно монотонные часы. Он не мог больше думать о Мадлен, не представляя себе Гевиньи возле нее, и от этого чувствовал определенную боль. Ну что он за человек? Предает Мадлен. Предает Гевиньи. Он подыхал от ревности и злобы, желания и отчаяния. Но все же сознавал себя чистым и уверенным. Он никогда не переставал быть порядочным человеком.
Читать дальше
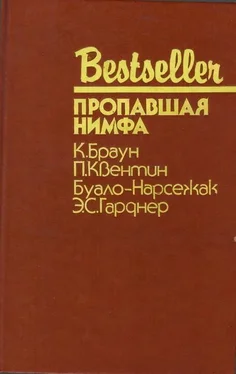

![Картер Браун - Том 16. Анонимный звонок [ Авт.сборник]](/books/99486/karter-braun-tom-16-anonimnyj-zvonok-avt-sborni-thumb.webp)

![Картер Браун - Настоящая партнерша [сборник]](/books/391500/karter-braun-nastoyachaya-partnersha-sbornik-thumb.webp)
![Картер Браун - Ядовитый плющ [сборник]](/books/391548/karter-braun-yadovityj-plyuch-sbornik-thumb.webp)
![Картер Браун - Любители тел [сборник]](/books/391584/karter-braun-lyubiteli-tel-sbornik-thumb.webp)

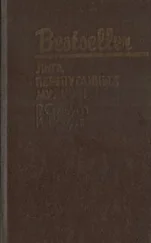

![Картер Браун - Дом колдовства [сборник]](/books/410248/karter-braun-dom-koldovstva-sbornik-thumb.webp)