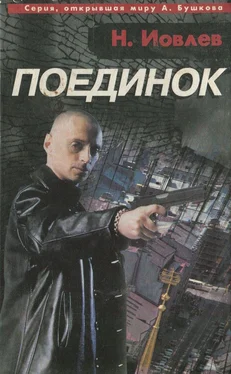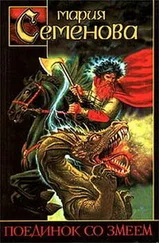Самое теплое место, да и то, конечно, относительно, — возле двери, но стоит задержаться здесь на десяток минут, как в приоткрываемом волчке раздается нудный голос надзирателя:
— Отойди от глазка.
Ходишь вначале по периметру карцера, затем для разнообразия начинаешь вырезать треугольники, пересекая каменную клетку по диагонали, потом несколько раз присядешь, вытягивая вперед руки — для пущего кровотока, а когда ноги нальются бетонной тяжестью, с силой трешь ладонями по бедрам, размягчая окаменелость мышц и одновременно их разогревая. А едва оцепенение отпустит — снова приседаешь. И вскоре холод отступает. Разогреешься — и вновь на бетонное седалище. Клевать носом да горькую думу думать. До тех пор, пока опять холод не проберет. И — все сначала.
А в полночь надзиратель откроет топчан, что всего лишь позволит сменить вертикальное положение на горизонтальное — и не более того. Ляжешь на шершавые стылые доски, свернувшись калачом, но уже очень скоро продрогнешь. А еще тараканы по телу шныряют. Много их, словно тут пищеблок какой… И опять — ходьба по кругу и по диагонали, приседания, растирания… Ляжешь, натянув рубашку на голову, надышишь широко раскрытым ртом — и успеваешь вздремнуть полчасика, пока не поднимет продравшая до костей стужа… В шесть утра дубак криком «Подъем!» сгоняет с топчана, пристегнув его к стене. И день начинается с вынужденной утренней гимнастики, от которой мышцы болят не меньше, чем суставы от холода.
И наконец однажды утром — через десять суток, а может и через сто, — время слилось в бесконечном плетении однообразных кружев — контролер карцерного блока входит в мою камеру:
— Подъем! Кончай ночевать! Лебедев?
— Юрий Николаевич, — привычно отзываюсь я.
— Захлопни топчан.
Повинуюсь приказу быстро, словно опасаясь, как бы вертухай не передумал.
— На выход… Стоять! Руки за спину! Вперед!..
В камере меня встречают радостными выкриками. Левша пожал руку, заглянул в глаза — не погасли часом? Повел в наш угол. Усадил на шконку. Вывалил на одеяло разной жратвы:
— Гужанись по первому делу. В третьем конверте пыхтел? Я ж говорил: шустряком ты заделаешься, в третьем мало кто до звонка домотал. Все или вены чиркали, или копыта откидывали. В лучшем случае их на крест выносили. Да ты гужуйся, Шприц, не кони. Поднабрать тебе надо весу-то. Цирики сильно прессовали?
— He-а. Да там и без этого несладко.
Еле узнаю свой голос. За десять дней совсем почти им не пользовался. Левша нарезает диски салями, укладывает их на ломоть хлеба, придавливает сверху пластом сыра.
— Уж знаю. Дуборный, в натуре, кандей. Ну ничо. Ничо. Ожбанился юрсовым кукарешником — с кем не бывает. — По тону Левши несложно догадаться, что он испытывает передо мной некоторое чувство вины.
— Все ништяк, — успокаивает он. — Может, еще хочешь оттолкнуться? А раскумариться тебе неохота? Так ты скажи — я подогрею, мне не в лом. Рассыпуха есть. Хочешь? А может, шпигануться лучше? Шмыгалово любое братва подгонит — морфушу, ханево, мел…
Еще ни разу Левша не предлагал мне кайфа, хотя сам торчит внагляк, вот и сейчас глаза его подернуты маслянистой пленкой, а зрачки разнесло во всю ширь.
— Ну, можно дозняком загрузиться, — не заставляю себя уговаривать.
Достав откуда-то из-под матраца аптечный пузырек с белым порошком, Левша отсыпает в чайную ложку микроскопический холмик.
— Что это? — спрашиваю.
— Рассыпуха. Марафет. Кокс, по-вашему. Пробовал?
— Спрашиваешь.
— Ну, можешь оттянуться. После пердильника не грех и позажигать немного.
Насыпаю дорожку на тыльную сторону ладони. До щемленья в сердце знакомое и вместе с тем такое забытое занятие. Усмехнувшись, Левша говорит на своем языке инопланетян, что даже правильно употребить кокаин мы, молодежь, не в состоянии, чего уж тогда ждать от нас еще. Вполголоса учит, что лучше всего рассыпуху не нюхать, а втирать в десны. Он показывает, как это делается, и я повторяю его движения.
Башню сносит с такой бешеной мощью, что я еле успеваю упасть на шконку, а не в проход. Верхний ярус шконки, нависший надо мной, превращается в лопасти пропеллера — и камера, раскрутившись вокруг меня в яростном вихре, выдавливает мое жалкое существо куда-то далеко за свои пределы.
Очнувшись от беспамятства, неуверенно озираюсь по сторонам. После сказочных дебрей, из которых я только что выскользнул, представшее зрелище производит шокирующее впечатление. Некоторое время я даже не могу понять, как очутился в этой душегубке, битком набитой двухэтажными койками и телесами, увенчанными далеко не ангельскими ликами. Не говоря уже о запахе.
Читать дальше