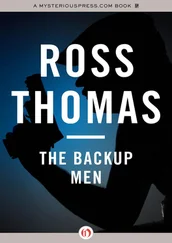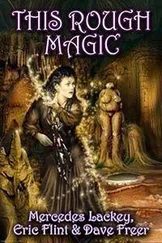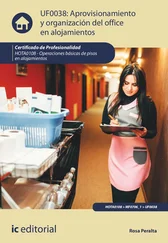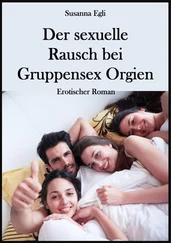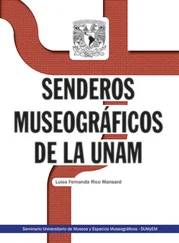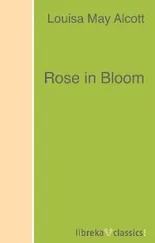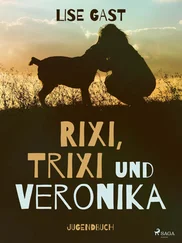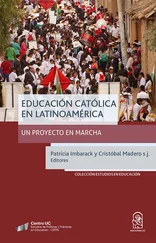Трубецкому можно было бы возразить, что монгольский идеал государственности, как это убедительно доказал Тихомиров, отнюдь не выходил за рамки удельно-вечевой системы, поэтому никакое оплодотворение его византизмом было просто невозможно. Византизм означал цезарепапизм, т.е. абсолютную концентрацию в руках светского правителя мирской и духовной власти. После христианизации Руси первыми подобной установки придерживались киевские князья. От них и вели свою родословную московские государи. В империи Чингисхана вообще не существовало государственной религии; там все веры были равны. Так что Москве от монголов перенимать было нечего: все необходимое она находила в своей "собственной античности" [ Д.С. Лихачев ] - древнекиевских временах, к которым и восходило ее политическое бытие. Не понимать (а тем более не знать!) Трубецкой этого не мог, однако "евразийский соблазн" [ Г.В. Флоровский ] заставлял его упорно отказываться от бесспорных исторических фактов.
Неменьшую одиозность Трубецкой выказал и в отношении к деятельности Петра I. Подобно всем евразийцам, он считал, что с него начинается новый период русской истории - период "антинациональной монархии". В прорубленное им в Европу окно хлынула "новая идеология ... чистого империализма и правительственного культуртрегерства", насильственного насаждения иноземной цивилизации. Это придало ложное направление всей правительственной политике. Прежде всего осложнилось положение "инородцев". Европеизация породила национальный вопрос, вовсе до этого не существовавший в России-Евразии. "По примеру других европейских государств, стремящихся культурно обезличить покоренные ими народы, императорское русское правительство проводило во всех областях с нерусским населением политику "русификации". Эта политика была полной изменой всем историческим традициям России, ибо древняя Русь никогда не знала насильственной русификации ...Русское племя создавалось не путем насильственной русификации инородцев, а путем братания русских с инородцами". Такая антинациональная политика, проводившаяся при Петре I и его преемниках, принесла громдный вред историческому делу России, делу евразийской консолидации славянских и азиатских народов.
Еще более тяжелые последствия вызвала европеизация в области внешней политики. Россия, войдя в круг европейских государств, вынуждена была принимать участие в бесчисленных войнах, борясь, как правило, не за свои собственные национальные интересы, а за иноземные. "Воевала Россия при Александре I и Николае I за укрепление в Европе принципа легитимизма и феодальной монархии, потом - за освобождение и самоопределение малых народов и за создание маленьких "самостоятельных" государств, а в последней войне - "за свержение милитаризма и империализма". Все эти идеи и лозунги, в
157
действительности придуманные только для того, чтобы прикрыть корыстные и хищнические замыслы той или иной европейской державы, Россия неизменно принимала за чистую монету и таким образом всегда оказывалась в глупом положении".
Расплатой за "двухвековой режим антинациональной монархии", восстановившей против себя все слои населения, все большие и малые народы, стала революция.
Трубецкому претило идущее от старых веховцев, вроде Бердяева и Франка, изображение "октябрьского переворота" как "прорыва природной стихийности" русского народа. У него вызывали самый решительный протест рассуждения о новой разинщине и пугачевщине. Он вообще не особенно тяготел к историческим аналогиям. Революция 1917 г. представлялась ему результатом "саморазложения императорской России", падения всемирного европеизма. Она знаменовала собой начало евразийского возрождения России.
Евразийство Трубецкого сводило в единый узел все многосложные проблемы российской политической истории, давало им свое объяснение, свой расклад. Это была широкая историософская панорама, равная по своему значению классическому славянофильству.
б) В числе других деятелей евразийства, отличавшихся наибольшей творческой активностью, выделялись географ и экономист П.Н. Савицкий (1895-1968), искусствовед П.П. Сувчинский (1892-1985) и Л.П. Карсавин (1882-1952). Во многом благодаря их усилиям появились основные программные документы движения: "Евразийство: Опыт систематического изложения" (1926), "Евразийство: формулировка" (1927), "Евразийство: Декларация, формулировка, тезисы" (1932) и др. В них на первом плане стояли проблемы государства, будущего устройства России.
Читать дальше