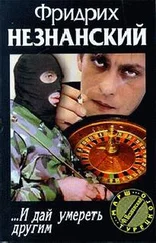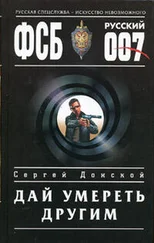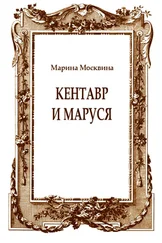И. Халатников - Дау, Кентавр и другие
Здесь есть возможность читать онлайн «И. Халатников - Дау, Кентавр и другие» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Дау, Кентавр и другие
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Дау, Кентавр и другие: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дау, Кентавр и другие»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Дау, Кентавр и другие — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дау, Кентавр и другие», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Часто приходится слышать разговоры о богатстве академиков в годы советской власти. У академика Мигдала не было даже дачи. Вспоминаю, что с начала перестройки у меня, как директора Института, появилась некоторая свобода в расходовании средств. Воспользовавшись этим, я первым делом повысил зарплату всем сотрудникам Института в полтора раза. Получив первый раз дополнительные 250 рублей, Кадя сказал мне: «Исаак, я впервые почувствовал себя свободным человеком, у меня впервые появились карманные деньги».
Мне приятно вспоминать, что последние несколько лет своей жизни АБ чувствовал себя «свободным человеком» и я, хоть и в небольшой степени, был к этому причастен.
«Ландау — наш ученый или...?»
Мы все преподавали либо в университете, либо в Московском физико-техническом институте, и, таким образом, школа Ландау была построена на хорошо организованной системе отбора талантливых молодых людей и привлечении их в аспирантуру. Поэтому сразу же после организации института мы решили создать кафедру Московского физико-технического института с тем, чтобы наш институт был для него базовым и чтобы мы могли там отбирать студентов.
МФТИ был организован специальным декретом, подписанным Сталиным. Документ был секретный. Предполагалось, что там будут готовить специалистов, связанных с учреждениями оборонного значения. В то время, когда мы создавали свою кафедру, году в 65-м, этот шаг требовал решения Военно-промышленной комиссии Совета Министров.
У меня не было непосредственных выходов ни на Военно-промышленную комиссию Совета Министров, ни на Совет Министров. К кому обращаться? Оставалось аукать на Красной площади. Помог отец нашего студента Владимир Константинович Бялко, который вывел меня на генерала Назарова. Александр Александрович Назаров работал в Управлении делами Совета Министров у Косыгина и готовил всевозможные документы. Мы договорились, так сказать, о сценарии — как будем действовать. Естественно, за подписью Мстислава Всеволодовича Келдыша, президента Академии, в Совет Министров был направлен документ о создании кафедры в Московском физико-техническом институте. Дальше этот документ стал гулять по канцеляриям различных министерств. Периодически генерал Назаров мне сообщал, скажем, следующее: «Сейчас документ находится в Госплане; вам надо сходить к заместителю председателя Госплана такому-то, он вас примет». Я ходил и, как правило, всюду встречал доброжелательный прием. Самым «узким местом» оказалось Министерство финансов. Я получил информацию от Назарова, что Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение Академии наук о создании нашей кафедры. Это было серьезное препятствие, но, как считал генерал Назаров, он найдет способ с ним бороться. А пока, по его совету, я попросился на прием к заместителю министра финансов Марии Львовне Рябовой, поскольку она курировала науку и культуру.
Это была невысокого роста хрупкая женщина. Когда я к ней пришел, она вызвала своего помощника. Помощник, огромный мужчина, пришел с отрицательным заключением. Основной мотив был: «Как же так, возникнет неконтролируемое совместительство». Преподавание предполагалось не в учебном, а в базовом институте. А как же нас проконтролировать, когда мы обучаем, а когда не обучаем?.. Выслушав этого самого чиновника, Рябова дала указание: «Перепишите и дайте положительное заключение».
Я до этого рта не открывал. Собираясь на прием, я, естественно, несколько нервничал и думал, как себя повести. Допустим, она скажет, что у нее уже отрицательное заключение — и все. На этой ноте закончить разговор будет как-то не очень удобно. Поэтому я решил так: возьму с собой книжку о Ландау, написанную Майей Бессараб, и при расставании с Рябовой, чтобы смягчить финал, подарю и скажу: «Вот книжка о Ландау, а мы — его ученики и создали институт, который будет продолжать его традиции». Неожиданно все решилось положительным образом, но я подумал, что и в таком случае преподнести книгу вполне уместно. Я сказал: «Вот книга о нашем учителе Ландау». И здесь последовала довольно неожиданная реакция. Рябова спросила меня: «Это наш ученый или зарубежный?»
Я вспоминаю этот свой визит к Рябовой даже с удовольствием, потому что она, несмотря ни на что, проявила уважение к науке и приняла правильное решение.
Мои же личные отношения с Физтехом, как иначе называется Московский физико-технический институт, имели долгую историю. В 1947 г. в МФТИ происходил первый набор студентов. Для приема вступительных экзаменов были мобилизованы молодые сотрудники физических институтов Академии наук и других организаций. Я тоже попал в их число. Предполагалось, что все экзаменаторы в дальнейшем станут по совместительству, на полставки, работать на кафедрах нового института. Но в сентябре 1947 г. выяснилось, что к преподавательской работе допустили не всех. Из списка были вычеркнуты двое — я и сотрудник И.В. Курчатова Андрей Михайлович Будкер. Надо сказать, что настоящее имя Будкера было Герш Ицкович, но Игорь Васильевич Курчатов для благозвучия сам придумал ему новое имя. Оба мы, и я, и Будкер, создали потом новые физические институты. А.М. Будкер является основателем Института ядерной физики, который в настоящее время носит его имя, в Новосибирском центре АН.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Дау, Кентавр и другие»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дау, Кентавр и другие» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Дау, Кентавр и другие» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.