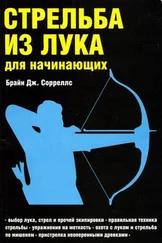Наконец, стали тяжелеть веки. Пора было спать. Он выкурил еще одну сигарету — без удовольствия, впрок — и пошел ложиться.
…Была у него в сутках одна такая минуточка, которой он особенно дорожил, на которую всегда возлагал особые надежды — это был момент перехода через грань сна. Как электрическая лампочка, которая в миг выключения вспыхивает, кажется, с многократной силой, так и мозг его в это мгновение словно бы взрывался ослепительными, неожиданными идеями, вдруг становилось связным разрозненное, цельным — раздробленное. Судьба многих дел, раскрытых Павлом, решалась подчас именно в эту краткую минуту между бодрствованием и сном, но он скрывал это, даже как бы и от себя. Всегда, впрочем, хранил где-то в глубине памяти уверенность: ну, это-то увяжется, дай только добраться до подушки….
Но нынче он был вял и разбит, и занимали его проблемы, далекие от тех, которые требовали осмысления.
Привычка, однако, срабатывала помимо наго: безвольно распластавшись поверх простыней, он словно бы посторонним взглядом созерцал события сегодняшнего дня и ждал сна.
Есть такие справочные автоматы на вокзалах крупных городов: нажмешь кнопку, и суетливо начинают перелистываться металлические страницы с названиями станций, номерами поездов, часами отправления и прибытия… Стоишь, почтительно удивляясь чудесам автоматики, ждешь…
Он представил себе такой автомат, листы мелькали, перед его глазами: Савостьянов с сострадательным взглядом, Витя Макеев, защищающий Химика, Александр Данилович, некто однорукий…
И вдруг — без всякой связи с предыдущим — его потрясла, пронзила, ударив, как электрическим током, удивительнейшая мысль.
Он вдруг заметил, что сидит на краю постели и счастливо улыбается. Попытался было засомневаться, но куда там! Такая это была целительная, освободительная, такое облегчение приносящая мысль, что справиться с ней было уже не под силу.
« Он врет ! — ликующе подумал он, и руки его задрожали. — Он врет. Никакого рака у меня нет. Ему необходимо, чтобы я был выбит из колеи. Как хладнокровно и просто! Я под предлогом консультации уговорил Андрея свести нас. Что-то у меня, действительно, не в порядке с желудком — для правдоподобия я выбрал именно эту болезнь. „Катар“, — сказал он. Довольно равнодушно. Ему это не впервой. Потом… А потом был разговор о моей мнительности. Вот за что он ухватился, почуяв уже, что подозрение в убийстве Ксаны Мартыновой может пасть и на него! Он тут же назначил мне время для обследования. До этого говорил: „Как-нибудь зайдите…“, а потом, когда почуял опасность, заторопился: „Приходите завтра“. Я же действительно жуткий псих, мне ли не знать! А он, как врач, знает, до чего можно довести мнительного человека. И ведь добился своего: сегодня разве я вспомнил, что Савостьянов — в числе тех, кого можно подозревать? Плевать мне было на все! Ах ты, Господи, до чего ж хитер! А этот намек? „Я вам покажу десятка два людей, вылеченных по моей методе…“ Неужели же, подумал он, я буду возводить обвинение против человека, от которого зависит моя жизнь?»
— Ха! — ликующе выдохнул он и вдруг совершил несуразное: кувырнулся по полу, лег там, раскинув руки: поза счастливого человека, поза человека, изнемогшего от счастья.
Где уж тут было спать! Веселая лихорадка колотила его, и сидя на кухне, в ожидании кофе, он то и дело вскакивал — подмывало торопиться куда-то, действовать. Как именно действовать, он еще не знал, но жила в нем уже твердая жесткая уверенность: «Все! Теперь тебе не увильнуть, Савостьянов!»
Утро медлило. Так бывало только в детстве, в кануны первомайских праздников, когда он просыпался задолго до солнца. Рядом с постелью, на стуле, лежала отглаженная, небудничная его одежда, а взрослые, с которыми идти на демонстрацию, равнодушно спали. У него все дрожало внутри от нетерпения, а взрослые спали, а праздник не торопился…
В третьем часу он уже изнемог. Залез под душ. Ночью напор воды был на удивление яростен и мощен.
— Начнем! — повторял он вполголоса, с веселым остервенением растираясь полотенцем. — Начнем приканчивать! Начнем, начнем!
С чего начинать, он явно не знал. Выйдя из дома, повернул сначала налево, а потом постоял, подумал, и пошел направо.
Уже начинало, кажется, светать. Но так робко и невнятно, что это трудно еще было назвать рассветом. Поэт — тот же, к примеру, Боголюбов — назвал бы это предчувствием рассвета.
«А ты-то, Андрюша, какого черта мельтешишь в этом деле? — подумал Павел. — Надпись-то на книжке Незвала — твоя!»
Читать дальше