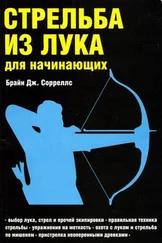…Потом в битком набитом, облупленном, опасно кренящемся автобусе по жутко встряхивающей дороге они ехали к подруге ее на день рождения.
Их то и дело прижимало друг к другу, и вначале они смущенно отстранялись друг от друга, но потом, устав сопротивляться толкотне, вновь сомкнулись телами, каждый при этом старательно глядя куда-то в сторону.
За окнами был бедный, сумеречный, с плохоньким светом в окошках город.
ДэПроклов был взволнован, однако, вовсе не тем, обычным, волнением, какое ему всегда приносило ощущение женского тела. Волнение было совершенно иным, неведомым, приятным, но странным, и, странное дело, немного было радости в волнении том, но много печали и почему-то обреченности.
Потом он сидел на стуле и слипающимися глазами старательно смотрел, как она и подруга (гости еще не собрались) накрывают на стол, и то и дело ловил себя на том, что чему-то блаженно-глуповато беспрерывно улыбается.
Потом он услышал над собой смех и обнаружил, что спит, свалившись со стула, а Надя потихоньку тормошит его за плечо.
— Не надо было тебя тащить. Я же забыла, что ты только что прилетел.
— Никуда я не улетал, — сказал он. — Я спал здесь всегда.
В соседней комнате ему положили на диван подушку, пошатываясь он перешел туда, лег и мгновенно, обморочным вертолетиком, полетел в черный блаженный провал сна.
Пробудился он уже на подлете к Петропавловску. Сколько часов он проспал, как делал пересадку в Хабаровске (и вообще, делал ли, «может, сейчас они напрямую летают?») — все провалилось в пьяные тартарары.
Рядом с ним сидела уже не старушка-учительница, а интеллигентного вида стручок-старичок — в пенсне ! Читал книжку.
ДэПроклов как воззрился на него пьяным, диким спросонья взором, так и не мог оторваться.
Потом не выдержал:
— Вы меня, конечно, извините, — начал он сверхвежливым сладеньким голосочком. — Дайте, хоть на полминутки, ваше пенсне поносить. Ни разу в жизни не носил. Даже, ей-богу, ни одного живоносящего не видел!
Старичок вместо того, чтобы возмутиться, вместо того, бы послать куда подальше — с искренним весельем рассмеялся.
— Ради бога!.. — сказал. — Если уж вам так хочется.
— Замечательно! — сказал ДэПроклов, водрузив на переносицу пенсне. — Жаль только зеркала нет. Как я? — спросил он у старичка.
— Вполне. Похожи на революционера времен «Народной Воли». Вам бы еще бороденку.
— Почто же вы незнакомого человека и так обижаете?!
— Ну, извините! — усмехнулся старичок.
— Спасибо! — ДэПроклов вернул пенсне. — Теперь я не сомневаюсь, что действительно уже, считай, на Камчатке. В Москве, если б я с такой же просьбой к кому-нибудь обратился, меня облаяли бы.
— Да, — осторожно согласился собеседник ДэПроклова, — народ там цепной. У нас — попроще.
— Как у вас там (то есть, здесь), на Камчатке? — спросил ДэПроклов.
Тот пожал плечами:
— Так же, как и везде, наверное. Только не забудьте умножить на камчатский коэффициент.
— Значит, худо.
— Кому как. Кто как приспособится.
— Ага. Ну, это-то дело известное: «Кому — война, а кому мать родна». — заметил ДэПроклов, а затем церемонную сложил фразу: — Не окажете ли любезность откушать вместе со мной немножко коньячку-с?
Старичок был с чувством юмора:
— Коньячку-с? Отчего же? Давненько не вкушал-с.
— Неужели так круто? — серьезно спросил ДэПроклов, добывая из кофра полуотпитую бутылку и закуску.
— Относительно «круто», судить не могу, а вот, что до безобразия плохо, будьте уверены. Вы раньше бывали на Камчатке?
— Бывал.
— Значит, не могли не заметить, что и раньше легкой жизни здесь не было — все привозное — а уж сейчас-то: то, что у вас в Москве возводится в квадрат, у нас нужно возводить в куб.
— Ваше здоровье!
ДэПроклов опрокинул пластмассовый стаканчик махом, его сотрапезник принялся пить по-старорежимному, мелкими глоточками, вкушая — мука мученическая была глядеть на это.
— Зря вы смакуете, — морщась и сострадая, заметил ДэПроклов. — Это, увы, не «курвуазье» — чеченский, судя по всему, продукт.
— Ну, почему же? Коньяком пахнет… — добросклонно отозвался старичок, заметно удерживаясь от гримасы.
Он, судя по всему, очень любил сыр. И, судя по всему, давненько не едал его вволю. У ДэПроклова даже сердце сжималось от жалостного сочувствия, когда он видел, как старичок берет ломтики сыра, как, стараясь, чтобы это выглядело пообыденнее, будто бы в рассеянности пожевывает, а тощее петушиное его горло аж ходуном ходит в алчной плотоядной судороге, а рука — помимо воли! усилие требуется, чтобы сдержать ее! — уже тянется к следующему куску…
Читать дальше