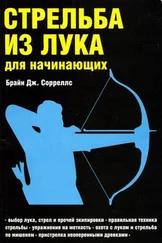Люди возле подъездов, люди в окнах — странно-тревожно и взволнованно-странно смотрели на букет цветов, которые он нес веником.
Он разыскал наконец ее дом, ничем не отличный от других.
Он нашел подъезд — грязный, с запахом кошек, со слабоумной матерщиной на облупленных стенах.
Он поднялся — то ли на второй, то ли на третий этаж — нажал кнопку звонка и тотчас услышал ее ясно-приветливый, радостный голос:
— Открыто, открыто! Входите!
И он — вошел.
Она домывала пол в коридоре.
Выпрямилась навстречу ему, руки слабо и беспомощно растопырив — в правой руке грузно обвисала сочно намоченная тряпка мешковины — сказала беззащитно:
— Ну что же ты так рано? Я и убраться не успела.
— Здравствуй, — сказал он.
— Дима-Дима… — произнесла она почти без выражения, вся прислоняясь к нему слабеньким своим тельцем, и облегченно вздохнула:
— Здравствуй. Это ведь ты?
Ага. Это, всего-навсего, я.
— Я рада, что ты приехал, — сказала она как призналась, все еще осторожно прислоняясь к нему. Потом отстранилась, сильно и тихо смутившись, отвернулась: — Я домою? Ты — сядь.
Он послушно сел в кресло, с интересом огляделся.
Это была двухкомнатная, кажется, квартира, плохо, случайными и небогатыми вещами обставленная. Без уюта здесь жили и чувствовалось почему-то, что нет любви в этом доме, нет крепости, и он уже не удивлялся той растроганной жалости, которая вспыхнула в нем, когда она так по-детски, так неприкаянно, пугливо и голодно прильнула к нему при встрече.
Хорошо, что я такою ее застал. Не при параде. Это — настоящее, и вот это тоже настоящее, отметил он, прислушиваясь к сладко ноющей своей печали-нежности.
— Сидел бы тут у тебя и сидел, — сказал он, следя каждое ее движение. Она кончала протирать пол тряпкой, намотанной на щетку, и он отметил, как не очень умело и не очень споро получается у нее это.
— Сиди. Только не смотри, пожалуйста. Я не одетая.
— Пусть. А у тебя можно поспать? Знаешь, какое у меня чувство? «Я — вернулся».
— У меня тоже. Тебя долго не было, и вот ты — вернулся.
— Так у тебя можно маленько поспать?
— Поспи. Но не очень долго. Тебе подушку дать? Мы сегодня идем на день рождения, я говорила?
— Обязательно, — отвечал он, ноги вытягивая и со сладостью разваливаясь в кресле.
Сон, однако, никак не хотел впускать его.
Он глядел на длиннющие свои ноги, аж упирающиеся в противоположную стену комнаты, глядел на себя, полулежащего в кресле — посреди Камчатки какой-то, на краю света, а рядом Надя, домывает пол… странно все это и хорошо… и странно, что хорошо… и хорошо, что странно… — но заснуть все никак не мог.
— Не могу я спать! — сказал он с досадой, садясь.
— А нам уже ехать пора.
Она стояла — нет, надо бы сказать, предстояла — наивно и явно демонстрируя ему что-то этакое, в цветочек, из ситчика, с какими-то оборочками, складочками, будто он хоть что-то понимал в этом, будто именно платьице было сейчас главным, а не она сама — не восхитительно-жалостное в своей хрупкости и загадочной прелести средоточие именно вот этих тщедушных косточек, нежных волоконец, теплой плоти, которое, именно оно, тихое восхищение в нем вызывали, — как будто не она сама, не добродушно сияющая сущность ее, — главным здесь и сейчас были, а вот это платьице…
— Можно, я тебя нежно обойму и поцелую? — спросил он.
— Можно, Димочка, — просто сказала она.
Он обнял ее бережно и тихо поцеловал во что-то горячее, шелковое, грубо вдруг и тяжко его сотрясшее, — где-то возле ключицы, в низу шеи.
И они остались стоять так сколько-то времени — будто бы согревая друг друга, будто бы внимательно и осторожно проникаясь друг другом.
— ……! — сказала она горячо и словно бы кого-то убеждая прошептав это в грудь ему, в распахнутую рубаху.
— Да, — согласился он. — Я вернулся.
— Да. Вернулся.
— И что же нам теперь делать? — спросил он.
— Ну, я же не знаю…
Да и в самом деле, откуда же им было знать впервые и в последний раз живущим — что же делать им с тем непонятным, грозно-важным, торжественным и скорбно-ликующим, что столь нежданно, столь ошеломляющим мигом стряслось вдруг между ними?
Потому-то и стояли вот так — тихо обнявшись, словно бы вслушиваясь друг в друга.
— Ты знаешь, — сказала она сокрушенно, — он говорит, что любит меня.
— Еще бы.
— И как же все теперь будет?
— Все хорошо будет, — сказал он без уверенности. — Плохо не будет. Надеюсь.
— Я тоже надеюсь. На тебя.
Читать дальше