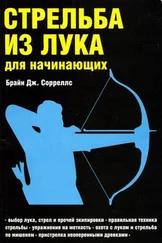Он втолкнул ее в комнатенку, где вдоль стены — одна на одной — сложены были панцирные сетки от кроватей, в углу на грязном полу валялся рулон матрацев. На стенке, полуоборванная, улыбалась японка с календаря.
— Во! Еле отбил! — тяжело дыша проговорил Игорь, не сразу попадая хлипким крючком в кольцо, и то и дело поглядывая на нее то ли виноватым, то ли вороватым взглядом.
Одна койка стояла в сборе. На ней был матрац без простыней, в желтых разводах.
Она подошла к окну глянуть, может быть, отсюда видно море, но не успела глянуть, он опять, как давеча, жадно обхватил ее сзади и вдруг стал грубо валить на матрац.
— Ну, не надо же так!
— Надо, Наденька… полгода… надо… — с хрипом повторял он.
— Мне больно! — вскрикнула она в голос.
Платье — она услышала — с треском разорвалось и оказалось вдруг на лице.
— Мне больно! — повторила она с яростью. Но тут он сделал ей еще больнее, и еще больнее, и еще… и ей стало отчетливо-ясно, что ему яростно-радостно делать ей именно больно.
Потом он перевалился на край койки, не удержался и оказался на полу. Дышал он, как после погони, а глаза были дики, но он улыбался.
— Что ж ты наделал!.. — заплакала она.
— Что надо, Наденька, что надо… — дрожащими руками он прикуривал сигарету и смотрел на нее уже без жадности, но победительно и слегка даже с высокомерием.
— У меня же все в камере хранения. Как же я пойду?
— Купим. Все купим.
В фанерную дверь забарабанили, и чей-то пьяноватый дурной голос крикнул:
— Игорек! На выход! Ты — уже?
— Я сейчас, на минуточку, — сказал он Наде. — Ты запрись. А то народ у нас… — он хихикнул. — Я стукну три раза. Поняла? Поняла, я спрашиваю?
Она закрыла за ним дверь.
По ногам ее что-то текло, быстро высыхая.
В комнате не было ни воды, ни раковины, ни даже графина. Она заплакала.
Платье было разорвано до пояса. Она заплакала еще горше.
Из окна никакого не было видно моря — пустырь с дрянными домишками и чахлыми садочками, какая-то железная рвань, штабели полугнилых фруктовых ящиков, заросшая травой железнодорожная ветка. Боль стихала, и она одно только мысленно, тихо повторяла: «Что же я наделала! Что ж я наделала!»
Он стукнул три раза, она медленно открыла, он ворвался с бутылкой вина и двумя яблоками.
— Я же не пью, ты же знаешь… — слабо сказала она.
— Ну а ты яблочка, яблочка поешь, — сорвал зубами пробку, ополовинил бутылку и едва поставив ее на пол, снова потянулся к Наде. Та в невольном страхе отпрянула, а он, словно того и ждал, тут же освирепел. Снова схватил ее в охапку.
Она была слабенькая, он был тяжелый и сильный. Он крутил и гнул ее, и она не могла понять, чего же он хочет, а когда поняла, он уже прижал ее лицом к зловонному мерзкому матрацу.
— Но так же нельзя! — кричала она, едва не задыхаясь от матрацной вони.
— Можно, Наденька, можно! можно! — уже вполне торжествуя ответствовал он сзади. — И так можно… а теперь вот и так! — и тут от внезапной разящей боли Надя визгнула и перед глазами ее вдруг померкло — она почти потеряла сознание — только слышала толчки злой боли сзади и его, с придыханиями, торжествующие слова:
— Ты была… такая красивая… там… на причале., такая… такая… такая!! Закроешь дверь, слышишь?
— Я не открою тебе.
— Не откроешь — выломаю… И не один.
— Я выброшусь в окно.
— С первого-то этажа? — Он с удовольствием рассмеялся.
Она наконец заплакала в голос:
— Принеси иголку с ниткой. Я прошу тебя! Я же так ждала тебя! И — воды, хотя бы в графине!
Но ни иголки с ниткой, ни графина с водой он не принес. Пришел через два часа, уже почти совсем пьяный, и снова мучил ее, с бешенством шипел: «Бери!», тыча в лицо, а потом, когда горячо брызнуло ей в лицо и что-то жгучее, горько-соленое попало вдруг на губы — ее ударило в рвоту, в конвульсиях стало возить и дергать по матрацу, и она даже не заметила, как столкнула пьяного Игоря на пол, где тот мгновенно и покорно заснул.
Потом полуосвещенным коридором бординг-хауза среди ободранных в ожидании ремонта стен, кадок с известью, заляпанных подмостьев, мешков с алебастром… — жадно зажимая руками разодранное на груди платье, затравлено озираясь, бродила в поисках туалета, воды…
За дверями еще пьяно гомонили.
Поперек коридора богатырски возлежал кто-то — в хорошем костюме, в галстуке, но почему-то в одном ботинке. Она долго боялась переступить через него.
Какая-то совершенно пьяная, распатланная женщина в одной лишь тельняшке на голом теле, явно заблудившись, стучала во все двери подряд и хрипло шептала на весь коридор: «Степа? Ты здеся? Степа!»
Читать дальше