И все-таки я ухитрилась выжить, хоть и провела в «Декагоне» целых пятнадцать лет. Впрочем, я вряд ли все это выдержала бы, если бы не возможность играть в баскетбол по уик-эндам и не поддержка Джулии, моей сокамерницы и единственной подруги. Первые два года нас с ней – а мы обе были осуждены за преступления над малолетними – все обходили стороной даже в столовой. В нас плевали, нас обзывали и проклинали, а охранники то и дело переворачивали все вверх дном в нашей камере. К счастью, через какое-то время о нас практически забыли. Мы находились в самом низу местной иерархической лестницы – убийц, поджигателей, наркоторговцев, революционеров-бомбометателей и душевнобольных. Все они считали растление детей самым наигнуснейшим преступлением – разумеется, полная чушь и притворство, потому что наркоторговцам, например, вообще наплевать, кого они там травят и сколько лет тем людям, которые покупают их чертово зелье; а поджигатели и вовсе не отделяют детей от прочих членов семьи, так что малыши сгорают вместе с родителями в подожженных домах и квартирах; да и бомбометатели не очень-то точно знают, в кого именно попадут. Но если бы кто-то усомнился в том, действительно ли они так сильно меня и Джулию ненавидят, ему достаточно было бы посмотреть по сторонам: эти женщины старательно демонстрировали свою любовь к детям; каждый свободный кусочек на стенах камеры был украшен изображениями младенцев и детишек чуть постарше. Как родных, так и чужих. Чтобы лишний раз уязвить нас, годился любой ребенок.
Джулия отбывала срок за то, что удушила дочь-калеку. Фотографию девочки она прикрепила над своей кроватью. Ее дочку звали Молли. Большая голова, безвольный рот и самые прелестные на свете голубые глаза. Джулия частенько шепотом разговаривала с нею – и по ночам, и вообще при любой возможности. Нет, она не просила у дочери прощения; она просто рассказывала мертвой девочке всякие истории – в основном волшебные сказки, практически всегда про принцесс. Я никогда ей не признавалась, но мне тоже нравились эти истории – они помогали уснуть. Мы с ней работали в швейной мастерской, шили форму для одной медицинской компании, которая платила нам двенадцать центов в час. Когда у меня от усталости начало сводить пальцы и я уже не могла как следует строчить на машинке, меня перебросили на кухню, но там я ухитрялась уронить любую еду, если та еще не успела пригореть, так что вскоре я вновь вернулась в швейную мастерскую. Но Джулии там не оказалось. Она угодила в лазарет после попытки суицида. Подруга толком не знала, как повеситься, чтобы вышло наверняка, и некоторые из самых жестоких наших сокамерниц предложили показать ей, как это делается. В камеру Джулия вернулась совсем другим человеком – стала тихая, печальная и ни с кем не желала общаться. По-моему, причиной столь ужасного решения стало групповое изнасилование, которому подвергли ее четыре наши сокамерницы. А потом она попала в любовное рабство к одной из тамошних заправил – эту особу все звали Любовником, и шутки с ней были плохи. Я же никому – ни охране, ни сокамерницам – особенно не нравилась и, с их точки зрения, годилась разве что для мимолетного перепихона. И потом, я ведь могла и сдачи дать, я сильно выделялась и ростом, и силой, так что многим казалась почти великаншей. «Ну и прекрасно, – думала я, – чем меньше будут лизаться, тем лучше».
От Джека, моего мужа, я за все эти годы получила ровно два письма. Первое начиналось со слов «моя родная», и далее следовали бесконечные невнятные жалобы: «Меня здесь…» (слово вымарано). Бьют? Имеют? Мучают? Какое именно слово могло настолько не понравиться тюремному цензору? А второе письмо носило совсем иной характер; оно начиналось с вопроса: «И о чем ты только думала, сука?» Зато в этом письме цензор не вымарал ни одного слова. Я Джеку так и не ответила. Мои родители присылали посылки – на день рождения и на Рождество: питательные сладкие батончики, гигиенические тампоны, религиозные брошюры и носки. Но ни одного письма они мне так и не написали, никогда не звонили и ни разу не приехали навестить. Впрочем, меня это ничуть не удивляло. Угодить им всегда было трудно. Старая фамильная Библия постоянно лежала у нас на этажерке рядом с пианино, на котором мать после ужина играла церковные гимны. Родители никогда этого не говорили, но я подозреваю, что они были рады от меня избавиться. В их мире Бога и Дьявола к длительному тюремному заключению невинных людей не приговаривали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
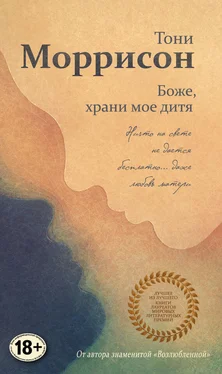



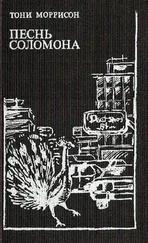

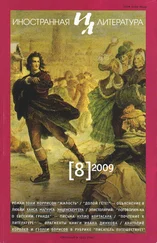

![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)


![Тони Моррисон - Возлюбленная [litres]](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-thumb.webp)
