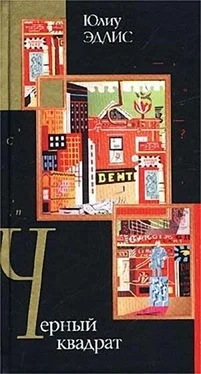И никакого к этому отношения не имеет его давнее и твердое, не вырубить топором, окончательное решение: не простить, не забыть предательства жены, а с ней заодно — и сына, но сын же тут ни при чем!..
И он, скрепя сердце и вопреки всем своим прежним, выношенным и вытверженным всей его жизнью правилам, решил отыскать сына, чтобы…
Чтобы — что?..
В мастерской Нечаева, как и во всей Москве, только и было разговоров и строились всевозможные предположения и прогнозы насчет перемен в стране, которые, по всему видать, не за горами, и каждый примерял их к собственной судьбе.
Но тут, на чердаке, все догадки о бог весть чем чреватых переменах походили больше на веселую компанейскую болтовню, на состязание в острословии — кто кого переспорит, а то и просто перекричит. И это как бы успокаивало Рэма, отвлекало его от тех опасливых, вполголоса, с глазу на глаз, и неизменно преисполненных тревоги дискуссий с коллегами по работе, то есть с той самой «солью земли» и «теином в чаю».
У Нечаева же собирались ежевечерне сплошь художники, молодые, задиристые, тщеславные, ни на миг не ставящие под сомнение собственный талант, а стало быть, скорую, руку протяни, громкую славу, и все как один — модернисты и авангардисты самых что ни есть наиновейших, официально не только не признанных, но и суровейше заклейменных течений и направлений.
Кроме, естественно, Ольги, из не принадлежащих к художественному сословию непременных завсегдатаев нечаевского чердака были Иванов да Исай Левинсон, философ-мистик, как он сам себя рекомендовал, работающий попеременно то дворником, то в котельной какого-нибудь жэка, свой уход из чистой науки объясняющий иностранным словом «эскапизм», яростный правдолюбец, неутомимый спорщик и ниспровергатель всего и вся, о чем бы ни заходила речь.
Непримиримость, откровенность их суждений поначалу ошеломляла и отпугивала Рэма, но потом, попривыкши к ней, он пришел к выводу, что все они не столько озабочены поиском истины, сколько просто-напросто выпускают пар в краснобайстве, тем самым, не отдавая себе в том отчета, защищаясь от всеобщих страхов и опасений: что дальше-то? дальше-то что?..
Одна Ольга эти разговоры слушала, не перебивая и не вмешиваясь, бегала за водкой и немудрящей закуской, чистила картошку и селедку, возилась на кухне, то и дело выглядывая оттуда, чтобы не пропустить ни слова из того, о чем до крика, до взаимных оскорблений спорили остальные.
А вскоре она и вовсе исчезла из мастерской Нечаева и никто за горячностью споров вроде бы этого и не заметил. Разве что Рэм — да и то как бы одной памятью, уже порядком стершейся и поблекшей, о той первой встрече с ней, когда он не мог отвести от нее глаза и под мужской застиранной, с оборванными пуговицами рубахой угадывал ту — обнаженную, хрупкую, влекущую к себе, какой он увидел ее на рисунках Нечаева. А ведь было, и еще совсем недавно, что ночью, в робких, неумелых, стеснительных и не утоляющих его чувственности объятиях Ирины, он против воли представлял себе, как любит и неистовствует не с ней, а с Ольгой.
Но и он, как и остальные, скоро привык к отсутствию Ольги в мастерской, будто ее там никогда и не было.
И лишь если попадалась ему ненароком на глаза запыленная папка с нечаевскими набросками с Ольги, он мельком, как бы вчуже, вспоминал о ней и тут же возвращался к общему словоговорению.
— Лично для меня, — не скрывал свою небескорыстную заинтересованность в ожидаемых переменах Нечаев, — лично для меня главное, чтобы недоумки эти с церковно-приходскими дипломами в кармане рядом с партбилетом, ни хрена в искусстве не секущие, мне, лично мне полный карт-бланш дали: как хочу, как вижу — так и малюю, а на все остальное я положил с прибором!
— И — думать, что хочу, говорить, писать без их ассирийско-вавилонской цензуры! — вспоминал и о себе Левинсон. — Тогда бы я, пожалуй, ушел из дворников…
А Рэм с чувством некой вины неизвестно перед кем думал, что ему-то и нынешней свободы, пожалуй, за глаза хватает…
— Если не считать, — не удерживался он, хотя и видел зыбкость своих доводов, — если не считать, что все, сколько их было, рафаэли и кто там еще, писали по заказу пап и исключительно на утвержденные церковью сюжеты. А какой-нибудь Эль Греко работал в самый разгар инквизиции, вокруг сплошные костры, на которых еретиков поджаривали. И Державин лизал пятки этой анхальт-цербстской немке на русском троне, да и из Пушкина не выбросишь: «Нет, я не лгу, когда царю хвалу смиренную слагаю…» — таланту все равно, где и когда жить, свобода — в нем самом. — И чувствовал свою неправоту и одновременно неприязнь к Левинсону.
Читать дальше