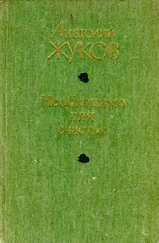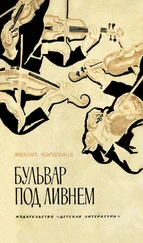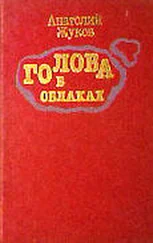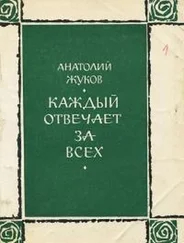— А я не нервничаю! Я хочу понять, разобраться.
— Разберемся, — дергал свою бороду Андрон, набычившись.
— Ха, разберемся!— холерично подпрыгнул Коньков. — Вторую репетицию буксуем и ни на шаг с места. Не вижу хвостика, за который можно было бы схватиться. Нету его, нету!
Коньков начал нервно ходить по кабинету. Коротко стриженый, с уже хорошо вырисовывающейся лысиной, долговязый, с немного выпирающим животиком, мелкими шагами — три туда, три сюда — измерял помещение. Что-то себе самому говорил под нос, но разобрать было невозможно. Какое-то время длилась эта полутишина.
Я молчал. Угорчик что-то рисовал на роли. Андрон, теребя бороду, настороженно изучал пол.
Тупик. Если только водки выпить, что ли? Может, и сорвались бы как-нибудь с этого мертвого якоря. Такое, бывало, иногда давало результат. Это я только подумал, а вот озвучить не решался.
— Я думаю, что нужно попробовать взглянуть на все с другой стороны, — продолжая рисовать, спокойно заговорил Угорчик. — Блуд — наркоман. Он все время нюхает порошок. И ему пофиг Добрыня со всеми своими проблемами. Одна цель: кайф словить, кайф.
— И что, это современное решение исторической темы? Чепуха! — не соглашаясь, говорил Коньков. — Ты думаешь, если прозвучит тема наркотиков, в которые чуть ли не каждую минуту нас тычут, как щенков в собственное дерьмо, все средства информации, сцена сразу оживет, приобретет современный язык? Тем более нигде дальше она не развивается.
— Я ничего не думаю, — со спокойствием сфинкса ответил Угорчик, водя карандашом по роли.
— А кто будет думать?— хлопнул в ладоши Коньков. — Один молчит, — Коньков посмотрел на Андрона,— второй за все время ни звука не произнес, — взглянул на меня, — третий ничего не думает, — взгляд упал на Угорчика.
У Конькова даже лицо вытянулось, зрачки глаз расширились и довольно хилая грудь приобрела форму разбитого кувшина: впереди колесом, а сзади, со спины, — яма.
Замечание Конькова в мой адрес я никак не воспринял. Мне почему-то стало его жаль. Почему? Да черт его знает. Разве иногда можно объяснить свои чувства?! Жаль — и жаль. И пусть!
— Да ну вас... — махнул рукой Коньков и тихо-тихо, но я услышал: — Засранцы...
Ну, это еще надо посмотреть, кто мы такие. например, с уверенностью могу сказать, что кем-кем, а засранцем себя не считаю. И на выходку Конькова внешне не отреагировал. Взгляд мой устремился на вечернее окно, на лице никаких эмоций. Не знаю, услышали ли последние слова Конькова Андрон и Угорчик, но и их лица были спокойны и задумчивы.
Я даже внутренне улыбнулся этой немой сцене. Чем не последняя сцена гоголевского «Ревизора»? Ситуация другая — а безмолвие одно и то же. Безмолвие. Смысл его всегда один — БЕЗМОЛВИЕ — и никакой другой.
Как бывает брошенное в спину оскорбление, так и ответом на него — безмолвие: будто не услышал, не ко мне, мол; как у старого пьянчужки с медалькой на замусоленном, заштопанном на локтях пиджаке два молодых здоровенных ублюдка отбирают бутылку «чернила», бросив его на грязный асфальт, а тот из последних сил пытается защитить свое единственное сокровище, а вокруг люди — безмолвие; как начальник, ничтожество и мерзость, используя твои мозги, лезет по служебной лестнице вверх, купаясь в роскоши и разврате, даже используя твою жену, одарив ее какой-нибудь бижутерией, а иногда, разозлившись, фиговинкой из серебра или золота, и тогда ей приходится врать (хотя никаких вопросов ты давно ей не задаешь), мол, сэкономила, нужно хоть какое украшение иметь женщине, а ты у него, как собака на цепи: все понимаешь и — безмолвие; бездушный глаз телевизионного монстра безапелляционно плюет враньем, раковые клетки этого вранья отравили чуть ли не все живое в сознании, а монстр харкает бесстрашно и безнаказанно, оглушая смехом дьявола последние чистые источники надежд: отравляет, выжигает, топчет копытами колхозного голодного животного. Что это, что? почему? зачем?— кричит все наше телесное: желудочное, внутреннее. Все просто, все совсем просто — обслуживай примитивные рефлексы: власть редко бывает человеку другом, и уж ни в коем случае мамой, сестрой или хотя бы попутчицей; нет тех эпитетов и сравнений, способных успокоить сердце, облегчить болючие раны; неосторожное движение или вскрик, слова или даже шепот, и вздрагивает душа от смертельной ненависти к тебе, которую изрыгивает оскаленная вонючая пасть власти — и безмолвие!
— ...он бабник, бабник! — кричал Коньков. — Добрыня всегда дает ему в дорогу одну из своих служанок.
Читать дальше