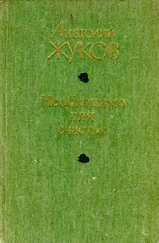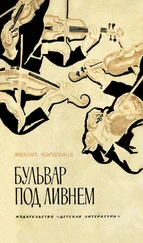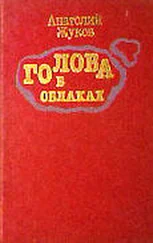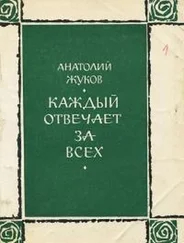Во мне начинало расти какое-то чувство растерянности. Весь мой богатый любовный опыт вдруг куда-то обрушился, будто подмытый половодьем берег. Я чувствовал себя неловко, как малолетка. Меня слегка подташнивало. Тьфу ты! А ведь не первый раз такое.
Я давно понят показушность некоторых моих знакомых, слушая иногда их рассказы: привел, мол, и как кошку — спереди, сзади, в губки... Слушая — не перебивал: пусть потешатся донжуанством. Один так заливал — заслушаешься. Даже неловко делалось за свой примитивизм и неумелость. А в результате выяснилось, что тот «певун» — девственник.
Наташа закусывала. Нет-нет, неправильно: она ела. На нее напал жор. Ела все, что попадалось под руку: сырок, колбасу, огурцы. Даже хлеб пошел, как свежая пицца.
Я был похож на стервятника, который терпеливо выжидает свое время. Только стервятник, судя по его поведению, делает это со спокойствием сфинкса.
Я нервничал. Когда-нибудь она закончит есть? Не позже, чем опустеют тарелки. И тогда снова прикинуться хамом?
Наташа смотрела на меня. За толстыми стеклами очков ее глаза были открытыми и какими-то слегка влажными. Щеки ее покраснели. Лицом она опиралась на левую руку, локоть которой стоял на столе. Сухим горлом, которое вдруг в одно мгновение пересохло, я глотнул, хотел что-то сказать — скорее всего, какую-нибудь глупость — но Наташа меня опередила:
— Ну что, милый, начнем? — ласково, будто прося разрешения, спросила она.
— Ага, — тупо кивнул я, больше всего смущенный обращением «милый».
— Я в ванную на минутку, а ты раздевайся.
Наташа неуверенным шагом вышла из комнаты. Через несколько минут в ванной зашумела вода.
Я отодвинул от дивана столик, начал раздеваться. Чувство легкой слабости и такого же волнения овладели мной.
Наташа вышла из ванной в одних бело-розовых трусиках. Даже очки там оставила. И мне показалось, что без них она смотрит как будто мимо меня. Белая, незагорелая часть круглых, сильных грудей с темно-вишневыми сосками пробила до дрожи. Обняла, поцеловала. В голове шумело.
— Ты что хочешь? — шепнула она.
— Все... — выдохнул я.
— Ты же хотел только минет.
— А сейчас не только этого хочу...
— Тогда сначала поцелую...
И весь разговор — тихо-тихо, на полутонах, лаская друг друга.
Наташа села на диван, ее ладони мягко обвились вокруг моего коренища. Языком щекотливо прошлась от пупка до моей дикой волосяной заросли, несколько раз захватила ее губами и я почувствовал, как мой корень начал тонуть в теплом и влажном, входя все глубже и глубже. Я совсем опьянел.
Вдруг Наташа содрогнулась всем телом, откуда-то из живота раздался глухой звук; она оттолкнула меня, еле-еле успев выскочить в ванную, где ее вырвало.
Посмеиваясь над собой, точней, над тем, что случилось, начал одеваться.
Наташа вернулась минут через пять, уже одетая, в сапожках.
— Не злись. Все было бы хорошо, если б не так глубоко взяла... — объяснила она. — Жадность взяла свое.
— Знаю такую женскую слабость, — усмехнулся я.
— Не злись. Не последний день живем, старый.
— Я не злюсь.
— Молодец. Я возьму сигарету?
— Забирай все, я не курю.
— Спасибо, пока.
— Пока.
***
За несколько недель репетиций мы не продвинулись почти ни на шаг. Как и раньше, пустая болтовня, чтобы что-то выяснить, не совсем удачная попытка походить по сцене в декорации.
Признаться честно, я заметил в себе какую-то постылость относительно моей работы, точнее - профессии. Она начала мне казаться выпитой бутылкой, которую можно уже выбросить. Отрыжка от нее. Чувствую, как кислота в желудке поднимается. Начинаю думать: зачем все это, какой в этом смысл? Возможно, только один: чтобы удовлетворить свое плебейское самолюбие, которое имеет намерение доказать всем, кто придет в театр на спектакль, что я умею что-то такое, что другим не дано. А может, аплодисменты на поклоне, которые начинают звучать сильнее именно на мой выход? Или приглашение на спектакль хорошенькой глупышки, которая, ничего не понимая в театральном искусстве, балдеет только от моего присутствия на сцене и от того, что мне аплодируют полтыщи зрителей? И в ее примитивном представлении самки я становлюсь особенным, исключительным? Затем, используя эту исключительность, трахнуть ее? А она будет думать, что владеет сокровищем, и искренне радоваться...
А может, тут совсем другое: профессия актера всегда подчинялась профессии режиссера. И это закон, табу. Смысл в этом немалый, если не сказать — основной. Актерское творческое время планирует режиссер, иногда сумбурно, бестолково. Извергая желчь и отвратительную зависть к чужому успеху, если только этот успех хоть как-нибудь не был связан с его именем. А если что и связывало, пусть даже самое отдаленное, маленькое, тогда этот успех уже не был успехом того, кто наполнил его дух своей кровью, кто сорвал, напрягаясь, нервы, чтобы на всю силу звучал талантливый голос. Он был осуществлением, признанием, победой, праздником — успехом режиссера.
Читать дальше