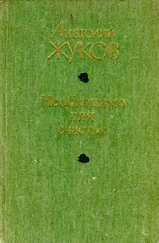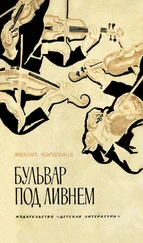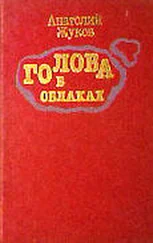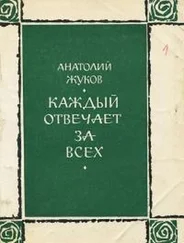О, как они умеют это делать, будто шакалы, отдирая от живого существа все самое значимое, чтобы набить требухой свое самолюбие и кинуть кость прилипалам, которые всегда существуют при них и которые, чтобы отблагодарить за брошенную им милостыню, с той же хваткой шакала готовы стать на защиту их неприкасаемого имени.
И глубоко в тень отходят те, кто до крови мозолил душу, сердце свое, тело, неся эту тяжесть мучений на себе.
Можно плюнуть им в морду, послать на х..., запачканной подстилкой не стелиться под это дерьмо. А они все запомнят, они не простят. И тогда ты обязательно станешь вольной птицей на широком просторе безработицы, где суетится не один десяток таких же вольных, которые только и ждут того момента, чтобы сесть в твое гнездо. И не со зла они — от безысходности.
Страх, что имеет свои тысячелетние корни, срабатывает в десятку. Но чувство страха, данное человеку природой, как реакция на какую-нибудь опасность, если только все нервные функции организма не имеют патологических отклонений — это нормальное чувство. И совсем ненормально — когда страх рожден гулаговской системой, когда страх генетический. Словами его не объяснишь. Он не поддается логике, осмыслению. Он, как страшный, неизлечимый микроб, во всем и во всех: рабочих, поэтах, инженерах, художниках, уборщицах, актерах, министрах, президентах, убийцах, насильниках, ворах; он даже в воздухе, в деревьях, в птицах, в зверях, в цветах, в животных...
Не могут, не умеют люди искренне сказать друг другу самое простое — добрый день; не умеют улыбнуться и порадоваться, что увиделись; не хочет воздух, чтобы им дышало все живое; не хотят расти цветы и деревья; одичали звери и птицы; страдают и плачут животные; слезами захлебываются озера и реки. Страх! И для нас здесь ничего нового, все, как мир, старо. Успокаивается вольный дух, подчиняясь рабскому чувству.
Неужели я этого хотел, этой мечтой желал наполнить свой мир?
И вот сижу в зале, в который раз смотрю скучную репетицию. И лезут мысли, лезут: зачем все, зачем?!
Э-э-э, старею, старею. Нужно зарабатывать какую-нибудь копейку. Жить святым духом еще никто не научился. И, само собой, я исключением не стану.
Да и что я умею еще в жизни, кроме актерства? Воровать — не научился, торговать, купи-продай, — скорее от стыда умру. Как-то своего коллегу по театру увидел на Комаровке. Тот продавал зимнюю куртку. Я опустил голову и постарался пройти мимо, чтобы он меня не увидел. Сердце кровью облилось — даже больно стало, будто я стоял в торговом ряду, а не он. Ну не позволяет что-то во мне заниматься этим делом. Хоть ты умри — не позволяет. Каждому свое на земле: один крадет — другой его ловит; один конструирует разную новизну — другой пользуется ею; один пишет песни — другой их поет; один стоит с протянутой рукой — другой ему подает... И только старая с косой — для всех матушка: одной любовью любит.
На сцене все еще репетировали эпизод, который по расписанию минут сорок назад должен был закончиться, а за ним начаться мой с Владимиром. И, как это часто бывает, затягивается репетиция одного эпизода и, понятно, отодвигается репетиция другого, а на третий — времени не хватает: переносится на следующую репетицию.
Смотрю на часы — до конца работы чуть больше часа. Значит, выйти на сцену, возможно, еще получится. А чтобы пойти домой — даже думать не стоит. Позовут минут через пятнадцать, тебя нет, могут и выговор влепить. Может, плевать на это, но полетит квартальная премия. Пусть мизерная, но если учесть, что вся зарплата — мелочь, то относительно нее эта премия все-таки что-то: примерно бутылок десять водки купить можно.
Широко зевнув, я вышел из зала, неспеша пошел к себе в гримерку.
На втором этаже, где все мужские гримерки и только одна женская, по телефону разговаривала Саша. Звонко и как-то фальшиво звучали ее голос, смех, которым она разбавляла разговор, видно, так реагировала на что-то сказанное ее собеседником. Ее левая рука кулаком упиралась в крутой бок бедра, правая нога, сильно обтянутая джинсами, в модной с тупым носом туфлей, была кокетливо отставлена на каблук. Я уже почти прошел мимо, как услышал последнее:
— Я тебе перезвоню, — и обращение ко мне: — Александр Анатольевич!
— Слушаю, — повернулся я.
Маленькая пауза, а в ней — тайные Сашины мысли, прищуренный пристальный взгляд на меня и все та же кокетливая поза.
— У вас спичек не будет?
— Я не курю.
— Жаль.
— Что жаль? Что не курю или что спичек нет?
Читать дальше