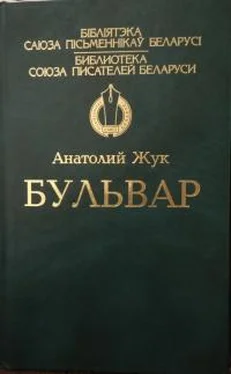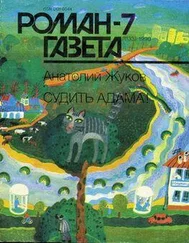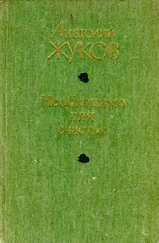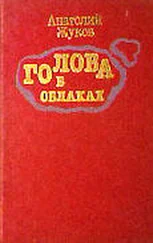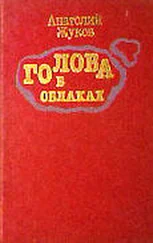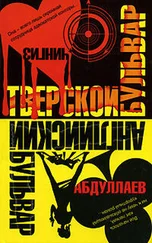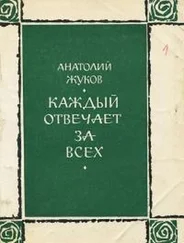Некогда закончив театральный институт, он какое-то время работал актером в театре. Дела не совсем заладились: определился как актер второго плана. И после одной, другой неудачно исполненной роли он оказался в рядах неперспективных, не подающих надежд актеров. Каждым новым режиссером, который приходил в театр, Куль назначался на эпизодические роли или выходил в массовых сценах.
Смириться с таким положением способен не каждый, особенно если внутри все кипит и рвется наружу. А самолюбие жжет, пылает домной, заливает кипятком все разумное и реальное. Слепит душу и сердце темной тиной неудовлетворенности, поэтому и хочется растоптать, разбурить, до последней песчинки вымести, чтобы хотя бы в этом хаосе быть в первых рядах.
Оставив актерство, вначале стал завпостом, потом, стараниями своей неуемной энергии авантюриста (здесь он был действительно мастер), убрал с поста бывшего замдиректора по хозяйственной части и сел на его место. Никаких принципов морали, совести не знал. Шел напролом, как танк.
С приходом Куля на должность замдиректора каждый год, когда театр уходил на отдых, в нем начинался ремонт: перекрашивали стены с желтого цвета в серый, на следующий год — с серого в желтый. Через год менялись кресла: деревянные, которые во время спектакля стучали, на мягкие, а потом мягкие опять на деревянные. В гримерках переклеивались обои. Скручивались, а потом и совсем убирались дорожки из коридоров, которые вели в гримерки, деревянный пол покрывали линолеумом.
А во время весеннего таяния снега или самых обычных дождей с потолка текло, театр заливало: в кабинетах, гримерках плесенью покрывались стены, на сцене вода капала актерам на голову. А в костюмерном цеху не капало — текло, корабли можно было пускать. Портились дорогие костюмы и обувь.
Со спокойствием бронзового идола, который чернеет на площади Независимости, смотрел на все это Куль, рассуждая примерно так: будет течь — будет рушиться, а где рушится — там нужен ремонт, а на каждый ремонт выделяются деньги. Подсчет их (куда и на что затрачены?) не всегда можно сделать. Даже невозможно сделать. Затрачены на ремонт, и все...
Просто, легко и в духе времени. Как и все остальное, к чему Куль прикладывал свои старания — просто и легко.
И эту простоту и легкость он превратил в свой талант, в свою соловьиную песню достатка и процветания. Его хлеб насущный всегда был с маслом, чего нельзя сказать про актерскую братию, да и многих других работников театра. Еле сводили концы с концами. Не кормила их профессия. А вот Куля кормила. Он брал от нее все и даже больше. Но от этого «больше» уже тянуло криминалом. Однако сидел он на должности на удивление прочно. Никакие выступления против него на собраниях, походы и письма в министерство, не могли сместить его. Видно, где-то и кому-то он был нужен. Ходили слухи, будто столярный цех, который непосредственно подчинялся Кулю, изготавливал кухонную мебель для чиновников из министерства. А как говорится — дыма без огня не бывает.
Но все же кое-что положительное Куль имел: глядя на него, я не хочу — мне даже страшно от такой мысли! — хоть как-нибудь быть похожим на него. Хотя чего там? Жизнь многолика!..
И в ответ на эту энергию разлада и разрушения приходилось выставлять свою: организовываться, тратить немалые силы. Вечная революция. Вечный бардак. А все мы их дети: без веры, без Бога.
Теперь антисилы собирались против Андрона. Собирались основательно, с очевидной надеждой на победу. В ход пускалось все: слухи, сплетни, угрозы, обещания, обман...
Куль процветал. Его талант авантюриста загорался красной звездой, звучал песней.
Художественный совет, который в скором времени состоялся, очень ясно выявил лицо большинства членов. Назвать это оппозицией нельзя, так как оппозиция всегда имеет за собой какие-нибудь объективные доказательства, уверенность — пусть даже ошибочную, наконец, обычную логику поведения. Ни первого, ни второго, ни третьего в этом нападении не наблюдалось. Было только одно: убрать, стереть, затоптать Андрона. Это звучало в каждом выступлении кулевских сторонников. А их, как я уже говорил, на художественном свете было большинство. Они выбрали для себя самую примитивную мерку в определении искусства: количество. И под эту примитивную мерку Андрон никак не подпадал в качестве достойного должности художественного руководителя. За пять лет он поставил только два спектакля. Второй — «Полочанка», даже еще был в процессе. Только его «Лорд Фаунтлярой» с неизменным успехом собирал полные залы. Так что количество было выбрано не случайно. Как мерка — она на все сто против Андрона.
Читать дальше