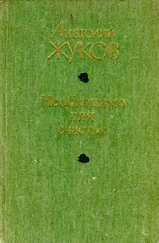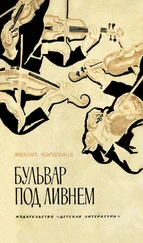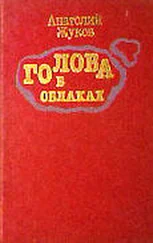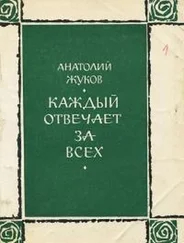В десятку выстрелила вывешенная вырезка из газеты. Мы явно уступали в своей организации. Нас было меньшинство. Председателем президиума выбрали Квасчанку.
Я глянул на Андрона. Тот сидел сбоку, в первом ряду от президиума, спокойный, даже с какой-то отрешенностью от всего.
После утверждения повестки дня и регламента выступающих с предложением до пяти минут — начались выступления.
Обычно собрания начинались как-то неохотно, с раскачкой, а тут все как с цепи сорвались.
Поднялся лес рук желающих выйти к трибуне. А первый выход — как запевка, как камертон, как своеобразная установка, дающая собранию определенное направление. Решением председателя первое слово дали Глуменко — артистке. И сразу в наступление. Говорила о том, что в театре мало новых постановок, что от нас отвернулся зритель, что в театре пьют, при этом старшие актеры посылают за водкой молодых... Клецко, который сидел рядом со мной, не выдержал, нервно шепнул:
— Вот где паскуда! Зимой, в дым пьяная, сама сидела голой сракой на снегу. Чуть вытянул из сугроба. А теперь смотри, каким борцом за трезвость сделалась.
— Учись, молодой, сучиному популизму, вкусно есть будешь, — шепнул я в ответ.
Дальше Глуменко говорила, что нужно кардинально менять жизнь театра, очевидно, намекая на неспособность Андрона управлять театром. Закончила явно самым больным для себя:
— Никак не могу понять насчет президентской премии. Почему в списке номинантов не было Дуцкой, главного художника Куль, Квасчанки? Не давайте Шулейко звания — помогите материально. Я шестнадцать лет в театре...
Услышав про себя, Шулейко поднялся, но, отчаянно махнув рукой, опять сел на место.
Глуменко продолжала:
— В купаловском театре дали шесть премий, так они поделили их еще на шестерых. И таким образом там получают двенадцать человек. Пусть и наши поделятся.
— Вранье! — выкрикнул из зала Саленков. — Там работает мой однокурсник, он сказал, что никакой дележки не было. Кому дали — те и получают.
— Я так слышала, — отмахнулась Глуменко и шла в зал.
— Про такие вещи надо не слышать, а знать точно. А вы несете лишь бы что, — говорил Саленков.
— У вас еще молоко на губах не обсохло, а вы уже начинаете делать замечания старшим, — разошлась Глуменко.
Поднялся шум. Не без стараний Квасчанка остановил его. Место на трибуне занял Крумкович.
— Я сорок лет в театре. Премии давали на театр, а не кому-то определенному. Есть гражданское, человеческое мужество, чтобы не допускать подобных явлений... Это не этично.
Крумкович, очевидно, волновался: у него дрожали руки, говорил тихо, с придыханием, съедая концы слов.
— Я чувствую себя массовкой, да что там — декорацией, — продолжал он. — Есть три артиста — и все! И что они — смоктуновские? Нельзя так.
Большинство зала зааплодировало.
Слово дали Ветрову. Он сразу дал оценку бывшему художественному совету, сказав, что работали в нем все честно, на совесть, чего желает и новому художественному совету, который сегодня будет выбран. В конце он сказал, пожалуй, самое важное:
— Вот тут Глуменко говорила, что актеры пьют, отправляя молодых за водкой. На меня намекала. А вот пил, пил — и допился до народного... Чего и ей желаю. И последнее: я никогда не был Смоктуновским. И не буду им. И не хочу быть. Я — Ветров! И на сцену выхожу как Ветров, и люблю как Ветров. Вот по всем этим плюсам и минусам обо мне и судите.
Потом выступал Семенчик. Говорил, что в голосовании по вопросу премий он участия не принимал, ибо не видел у Ветрова, Чабатаровича, Каболеровой исключительных заслуг перед белорусским искусством.
В этот момент мне вспомнился случай, как, может, год тому назад Шулейко за рюмкой в гримерке выдал на него экспромтом эпиграмму: «Искусству нужен так Семенчик, как тигру на х... кулончик!». Смеялись все присутствующие. Семенчик обиделся, даже ушел из гримерки.
Свое выступление Семенчик закончил тем, что художественный совет и его председатель были непринципиальными в подборе репертуара и принятии спектаклей, что только решали свои корыстные дела, результат которых мы сегодня имеем.
К трибуне вышел Саленков.
— Вы целый час ругаетесь и говорите об одном и том же. Ищете разные скверности там, где их нет и быть не может. Все время друг друга попрекаете в чем-то и по-черному завидуете коллегам, которых награждает государство. Господи, сколько у вас злости и ненависти! Когда учился в академии, мне театр казался чистым, светлым, добрым. Я верил, что театр — храм. А как пришел сюда — встретил обратное,..
Читать дальше