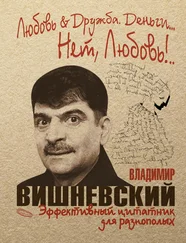Первым делом Сергей тщательно побрился — не потому, что в этом была срочная и настоятельная необходимость, напротив, в деревне-то как раз и можно дать себе послабление, опроститься, обзавестись щетиной — некоторые именно с этого и начинают свое сближение с природой. Он ничего подобного себе не позволял — и не потому, что был педантом, неукоснительно следующим, где бы ни был, раз и навсегда выработанным привычкам. Просто он не любил щетину, само ощущение, которое она вызывает, если по ней провести ладонью.
Отец в соседней комнате затеял свою одинокую возню с печкой — дело, которое он выполнял каждодневно и к которому за долгие месяцы вдовства так и не привык. Нет, он делал все как надо, с толком, но без чувства. Простые действия, которые мать умела одухотворять, он выполнял слишком уж обыденно, машинально. Иногда Сергею казалось, что и живет он машинально. Он жалел отца глубоко, искренно, хотя и не умел выразить эту жалость — может быть, потому, что не принята она между мужчинами. Он просто помогал ему, старался навещать почаще, отвлекал от грустных мыслей разговорами. Однако потухший взгляд отца оживлялся редко. Он видел, как отец тоскует по матери, как ни в чем эта тоска не может найти исхода, да и не ищет его, и жалость в душе его умножалась, но вместе с нею росло и ощущение собственного бессилия. И тогда он сам искал хоть какого-нибудь отвлечения. Дело рукам обычно находилось.
В такие минуты Сергей особенно жалел, что рядом нет жены, у которой получалось то, чего никак не получалось у него, но которая не всегда могла поехать с ним в деревню. Она одна умела утешить отца, поднять в нем жизненный тонус. Глядя на нее не раз, он думал о том, что подвиги милосердия по плечу только женщине.
Сказав отцу о своем намерении вскопать гряды и получив в ответ обычное: «Ну, ну!» — он вышел во двор за лопатой. С тех пор как отец перевел последних кур, продав их вместе с петухом, ворота во дворе открывались только по необходимости. Правда, чистоты и порядка в нем было больше — отец от нечего делать, а больше, наверное, от тоски — навел их, но пустота его угнетала. Бесполезный теперь, ненужный хлев, из которого они понемногу выбирали прошлогодний навоз, удручал особенно. Именно пустой, бесполезный двор особенно больно ударил по сердцу, когда Сергей вскоре после похорон матери, еще не привыкший к ее отсутствию, приехал навестить отца. В дому ему все казалось, что мать где-то рядом, хлопочет, по обыкновению, у печки, а сейчас вот откроет дверь в переднюю и позовет его завтракать. Забывшись на минуту, он всякий раз вздрагивал, когда дверь открывалась и в горницу входил отец. Двор сразу и беспощадно все перевернул в его душе, хотя куры тогда еще бродили по нему и ворота были приотворены.
Двор всегда был царством матери. Это она вкладывала в него частицу неуемной своей, никогда не знавшей покоя души. Попав в больницу и уже приговоренная врачами к смерти, но еще не зная об этом, она особенно переживала из-за коровы: как она там без нее? Сергей всячески успокаивал ее, уверял, что они с отцом не продадут корову без ее согласия, хоть сердце его разрывалось на части: он уже знал о приговоре.
Не зная правды о болезни матери, но по своей природе склонный всегда предполагать худшее, отец не вынес переживаний и сам попал в больницу. Было это на исходе февраля, незадолго перед тем матери исполнилось семьдесят. Сергей оставил на время работу и уехал в деревню: кроме него, вести хозяйство было некому. Доить корову приходила соседка, он же поил и кормил Дочку, убирал в хлеву, топил печи, выгадывая часы, чтобы съездить в больницу навестить отца и мать. Вот тогда-то он и узнал, что это такое — материнское царство, двор. Ну, куры особых хлопот не доставляли. Им нужно было дважды в день вынести корм — обыкновенный магазинный хлеб, размоченный в воде и размятый руками, не забыв, однако, когда они наклюются, внести корыто с его остатками в избу — иначе замерзнет. Господствовала во дворе корова. Ее нужно было — по часам — трижды в день накормить и напоить и хотя бы через день прибраться в хлеву.
Напоследок вздумалось зиме покуражиться над людьми. Ни днем, ни ночью не прекращали свою тягомотную карусель колючие, злые метели. И вот тут-то в очередной раз вышли из строя водоразборные колонки. Они всегда отказывали в самый неподходящий момент: летом — в разгар засухи, зимой — в бураны или морозы. Трактором расчистили дорогу до недальнего ольшаника, и деревня возила и таскала воду на себе из незамерзающего даже в лютую стужу родничка, сохранившегося на месте бывшей часовни. Корове нужно было на день шесть ведер, да себе на всякие нужды ведра два-три. Дочка словно мехами вбирала в себя вынесенную ей воду, размеренно хрумкала выложенное из корзины в ясли сено, а затем лежала на свежей подстилке и жевала серку — и все это одинаково безразлично, слегка даже высокомерно. Впервые заходя к ней с вилами в хлев, Сергей даже побаивался: а как она встретит его, не повернет ли угрожающе в его сторону рогатую морду? Она встретила новоявленного хозяина равнодушно, а когда он довольно вежливо попросил ее подвинуться, переступила ногами так неохотно, как будто делала ему величайшее одолжение. Сергей вспомнил, как мать ухаживала за коровой. Она не просто ее доила, поила или кормила, она обхаживала ее, гладила, разговаривала так, как разговаривают с вполне разумным существом — с младшей сестренкой, например, или с маленькой, но вполне смышленой дочерью — чаще всего ласково, иногда ворчливо и слегка сердито, раздражительно. В порыве нежной признательности она могла воскликнуть: «Барыня ты моя! Умница ты моя!» Порой с ласковой укоризной она выговаривала ей: «Мучительница ты моя!»
Читать дальше