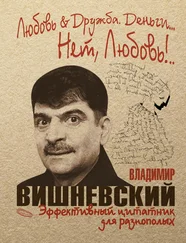— Ну! — человек в зеленом плаще поднял свой стакан.
— За что? — прохрипел пересохшим горлом Федор.
— За твою гибнущую душу!
Федор успел заметить, как странно сверкнули глаза неожиданного собутыльника, и поскорее опрокинул огненную жидкость внутрь себя. В то же мгновение будку потряс дикий, леденящий кровь хохот. Человек в зеленом плаще поднялся, и Федор увидел, как нос у него загнулся хищным крючком, а ногти на пальцах, сжимающих бутылку, стали расти прямо на глазах.
— Ах-ха-ха-ха! — вырвалось из темного, пещерного рта.
Удушье сдавило грудь и горло Федора, он не мог ни закричать, ни пошевелиться. Нечеловеческий, звериный вой, силясь превозмочь тяжесть удушья, рвался из него наружу…
И вдруг Федор увидел себя сидящим на лежанке. Руки его судорожно шарили вокруг, словно отыскивая что-то.
— Где? Где он? — вырвалось из сведенного сухостью горла.
Глаза блуждали, отыскивая того, кто только что сидел здесь, напротив. Но никого в будке не было. На столе одиноко стояла пустая бутылка из-под водки. Федор схватил ее и выбросил в зияющий прямоугольник дверного проема. Потом он вскочил на ноги и выбежал из будки. На воле, на свежем воздухе, он попытался взять себя в руки, успокоиться. Его тело била крупная лошадиная дрожь.
— Вот уж не думал! — говорил он, затравленно озираясь. — Вот уж не думал, что все так будет!
И тут им овладела злость. Злость на себя. И только на себя.
— Это надо! — с горечью и презрением казнил он себя. — Это надо до такой степени допиться! Посмотрели бы на тебя дети! Что бы они сказали? «Пьянчуга ты несчастный! — сказали бы они. — До чего ты себя довел! До чего ты докатился! Ты только погляди на себя!..»
Федор обхватил голову руками и осел в траву, рыдая. Когда слезы иссякли, он немного успокоился и посмотрел вокруг уже более осмысленно. Рассвет еще только занимался. Где-то в деревне запоздало пропел петух. Но все еще спало, дорожа последними минутами предутреннего покоя.
— Все! — говорил себе Федор уже более осмысленно и трезво. — Теперь-то уж все! Брошу… С сегодняшнего дня брошу пить, опять стану человеком. Зарплату всю до копеечки буду Надюшке отдавать. Вот, — скажу, — тебе, распоряжайся как хошь. Хошь, купи себе осеннее пальто, а хошь, телевизор цветной купим. Будем зимой фигурное катание смотреть, и все костюмы сразу видно будет. А то объясняют там: такого-то и такого-то цвета, а все одно — черное да белое… Дочке вельветовый костюм купим, заграничный. Сдадим за него что-нибудь. Нынче, наверно, на картошку будет спрос. А картошку свою вырастим, поливать будем. Петьке выставлю бутылку, скажу: хошь пей, хошь — как хошь, а я не буду. Хватит! — Он одичало повел головой вокруг, узнавая и не узнавая то, что его окружало. — Где я? Все вроде бы знакомо, а будто бы впервые все вижу. Вот до чего допился, бесстыжая твоя рожа! Был вроде бы человеком, а теперь что? — Оглядев себя, свою грязную, помятую одежду, проведя рукой по заросшему щетиной лицу, он плюнул с досады. — Тьфу! Вот вся цена тебе — плевок…
Федор поднялся, прикидывая, чем бы заняться до начала работы. Ничего придумать не удалось, и он решил просто полежать в будке при открытой двери, чтобы ничего не мерещилось в темноте. Заснуть ему вряд ли удастся, но полежать надо. Надо окончательно прийти в себя и успокоиться.
Вопреки ожиданию, он заснул и проснулся оттого, что кто-то упорно тряс его за плечо. Федор повернулся на спину и открыл глаза. Над ним стоял Сашка Ромодин.
— Эй, соня, вставай! Я тут расстарался, добыл кое-чего.
Федор с усилием приподнял тяжелую ломотную голову. На столе перед ним, невинно поблескивая, стояла целехонькая, еще не распечатанная бутылка.
1982
Проснулся Сергей не рано и не поздно, около семи, и несколько минут лежал праздно, не утруждая себя даже мыслями о предстоящих дневных хлопотах, тем более что ничего обременительного его не ожидало — нужно было вскопать в огороде гряду под помидоры. Дело привычное, знакомое едва ли не с детских лет. Привычной была и обстановка деревенского родительского дома, за последние двадцать лет в нем мало что изменилось.
Скомандовав себе подъем, Сергей решительно отбросил одеяло и резво, как в былые годы, вскочил на ноги. Приятно ощутил в теле упругую, натренированную ежедневной физической работой, упорно не поддающуюся возрасту силу. О возрасте напомнило зеркало. Седина… Пожалуй, несколько преждевременная, материнская. В роду у них по материнской линии все рано седели. И все-таки седина не память, а, скорее, траур. Но и в этом качестве она пришла преждевременно и неожиданно, как снег, выпавший вдруг в конце сентября на не успевшие еще облететь листья. Было однажды такое. Сырой снег тяжелыми хлопьями оседал на ветвях деревьев и ломал их. Пострадала тогда и любимая его березка, принесенная им из леса и посаженная возле крыльца. Правда, березке это пошло на пользу. Обломанная, она раскудрявилась, разневестилась, а потом и ввысь пошла, к солнцу. Дерева живучи — не то что люди.
Читать дальше