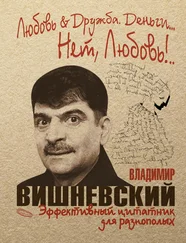— Смотри, пожалеешь потом. У меня, брат, вина… Знаешь сколько у меня вина?
— Не знаю и знать не хочу! Не мешай мне, Федор. Видишь сам, я делом занят. Иди-ка проспись да заводи свою «Волжанку».
— Не учи ученого… Я лучше тебя знаю, что мне делать.
— Знаешь, да мало понимаешь.
— Это я-то мало понимаю?
— Ты!
— Ладно! Мы тебе это попомним.
— Тошно мне с тобой разговаривать.
— Тошно? Тогда не разговаривай.
— Рад бы. Да ты пристал, как банный лист к заднице.
— Я тебя… — Федор вплотную приступил к бригадиру. — Я тебя все-таки уважаю. А знаешь, за что?
— Не знаю и знать не хочу! — окончательно потерял терпение бригадир.
Так. Вот он как заговорил, Васька Тихомиров! А по-шел-ка и он к такой матери! Он, Федор Курунов, каждого пошлет куда следует. Выйдет сейчас на середину улицы и всех подряд будет посылать…
Ноги, однако, подкачали. Вынеся хозяина на дорогу, они перестали ему повиноваться. Оступившись в колее, Федор рухнул в самую пылюку. Пыль тут же набилась ему в рот и в нос. Сознание оставило его…
Очнулся Федор в своих собственных сенях, на тех самых лохмотьях, на которых днем, спасаясь от жары, спала жена. Лицо саднило, в боку тупо ныло, во рту стойко держался привкус дорожной пыли и сухого коровьего помета. Федор осторожно провел ладонью по лицу, огрубевшей, шершавой кожей явственно ощутил на лбу коросту запекшейся крови. Голову невозможно было поднять, и, когда он попытался сделать это, резкая боль под черепной коробкой заставила его откинуться назад. Федор застонал и выругался сквозь стиснутые зубы. Затем он медленно, не отрывая головы от подушки, повернулся вниз лицом и потихоньку встал на корточки. Проклиная все на том и этом свете, он мало-помалу, держась за стенку, выпрямился и кое-как вынес свою больную голову на волю, на свежий воздух. Судя по солнцу, времени было часов шесть — половина шестого. Сжав виски ладонями, Федор добрался до колонки, пустил воду и пригоршней несколько раз плеснул ею в лицо, жадно хватая влагу спекшимися губами. Малость полегчало, смутно стало припоминаться вчерашнее, стыдное.
Федор знал за собой дурную привычку — выпив, слоняться по деревне, приставать к каждому встречному, ругаться с ними по всякому поводу и без повода. Потом стыдно было смотреть людям в глаза, делать вид, что все происходило в беспамятстве. Ах, проклятое зелье, ни дна бы ему, ни покрышки! Скольких оно погубило и скольких еще погубит! Нет, не властен человек над своими слабостями, не властен. Кто, скажите, по своей собственной воле бросил пить? Нет таких, Федору они не известны. Ваську Тихомирова к трезвости врачи приговорили. Тут уже, как говорится, никуда не денешься. Или — или…
Рассуждая так, помогая себе жестами, Федор выбрался прогоном на задворки и скоро оказался у средней будки, в которой он спрятал купленную вчера водку. Он нашарил в лопухах ключ и отомкнул замок. Окон в будке не было, свет попадал внутрь через приоткрытую дверь. Федор для верности ощупал бутылки, крайнюю переправил в карман брюк и тут же вспомнил, что нет у него ни стакана, ни закуски. Из горлышка тянуть он не умел, не научился, без закуски же и со стаканом водку ему не осилить.
Надеясь на удачу, он направился к часовенке и не ошибся: валялись там на земле и обломанная вчерашняя буханка хлеба, и стакан, забытый Петькой Цыгановым, и банка с недоеденными консервами.
После стакана водки боль из головы улетучилась, окружающий мир обрел свои краски, звуки, запахи. Нужно было идти запускать «Волжанку», но уходить никуда не хотелось. Федор лег на траву вверх лицом, закинул руки за голову. Решил так: полежит минут десять, а уж потом и к «Волжанке». Десять минут все равно ничего не значат.
Отведенное самому себе время прошло. Однако вставать по-прежнему не хотелось. Белесое, чуть подсиненное небо в разрывах крон притягивало взгляд и совсем не слепило, не резало глаза. Хорошо лежать, не утруждая себя всякими мыслями. Лежать и просто смотреть в небо. «А работа не волк», — весело мелькнуло в безоблачной голове. «Голова ты моя удалая», — пропел Федор и сел. Он налил в стакан и выпил. «Еще немного полежу и пойду», — подумал он. Хорошо, когда никто тебе не мешает, не стоит над душой, не мытарит ее. «В ни-и-зенькой свете-е-елке, — запел Федор вполголоса, — о-огонек гори-и-ит…» Ему захотелось запеть погромче, и он прибавил голосу: «Мо-лода-а-ая пря-а-аха по-од окно-о-ом сиди-и-ит…» Чего еще ему надо? Все у него есть: покой, тишина, воля. И даже комаров нет. «Мо-олода-а-а, кра-си-и-ива, ка-арие-э-э глаза-а-а…» Он вообразил себя идущим по деревенской улице и поющим под гармошку. Видение оказалось настойчивым и зовущим.
Читать дальше