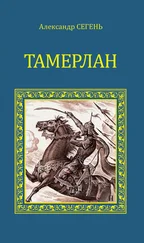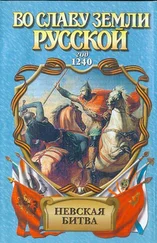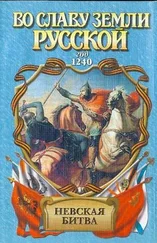— Из-за меня?.. — удивленно спрашивает Людмила.
Из-за следующей сцены фильм чуть не зарезали. Хотя и всего другого хватало, чтобы положить второй полный метр Незримова на полку. Шел 1957 год, уже много писали и смело говорили о тысячах незаслуженно подвергшихся репрессиям, но общество еще лишь готовилось к их приходу в литературу и кино, еще не восстановили главное редакторство Твардовского в «Новом мире», откуда его выгнали три года назад за преждевременную смелость, еще не выскочил «Один день Ивана Денисовича», а Герасимов не думал, что снимет «Людей и зверей». Эол Незримов одним из первых шагнул словно в пропасть, уверенный, что после решений двадцатого съезда можно.
На худсовете орали:
— Опять этот Эол со своими выкрутасами!
— Что за подозрительные намеки на очередной съезд партии?
— Царя ему подавай!
— Почему царя?
— Там бабулька квакает что-то: «при царе» типа лучше было.
— И про царские врата еще!
— Зачем этот Дубов постоянно подчеркивает: по-русски, не по-русски. Что, рыбалку только русские любят? Или застолье.
— Да-да, а музыка при этом американская. Зачем, спрашивается? У нас нет своих песен? Как там в басне? «Есть еще семейки... А сало русское едят!»
— Товарищи, вот смотрите, что получается. В этом году выходит «Дом, в котором я живу», о войне. Прекрасная работа. «Летят журавли», не хуже. «Коммунист», сильнейшее произведение. А что мы видим тут? Страдания человека, арестованного за дело. Кто ему дал право хамить старшему по званию? И мы должны ему сочувствовать?
— К тому же сейчас выходит картина о том, как парень возвращается из мест не столь отдаленных, — «Дело было в Пенькове».
После слов Людмилы «Из-за меня?» идет долгий флешбэк, показывающий, как и почему арестовали Суховеева. Кёнигсберг, вдалеке виднеется башня Дона. Эх, Жуков уже по Германии топает, а мы тут застряли! Хренигсберг проклятый! Старший сержант Суховеев достает из кармана фотографию Людмилы, смотрит на нее, прикладывается губами. Незаметно подкрадывается лейтенант Опенченко, заводит оскорбительный разговор: да бабенки они все одинаковые, ждет, ждет, потом ножки раздвинет, потом опять ждет. Суховеев в гневе ссорится с Опенченко. Старший сержант Суховеев! Как разговариваешь с офицером! Да пошел ты, возгря блиндажная! А то, если не немцы, то я тебя пристрелю, гада! Из башни Дона начинают стрелять, всюду свищут пули. Опенченко весь вжался в землю, медленно отползает. Давай-давай, ползи отсюда, распетушье! Стрельба усиливается. Опенченко исчезает, отовсюду ползут бойцы, готовясь к штурму неприступной крепости.
На башне Дона развевается красное знамя. Наши бойцы ведут пленных немцев, и на глазах у тех и других Опенченко и двое особистов арестовывают Суховеева.
Весь этот флешбэк из фильма хотели вырезать, Эол Федорович с большим трудом его отстоял, только благодаря тому, что многие члены худсовета его поддержали.
— Тем, что он был арестован, защищая честь жены, усиливается драматизм дальнейшего развития фильма, — сказал тогда не кто-нибудь, а сам Пырьев, только что ставший еще более важной персоной, чем прежде, — председателем оргкомитета союза кинематографистов. Если бы не он, фильм бы как пить дать зарезали.
После сцены в Кенигсберге Павел и Дубов сидят друг напротив друга на стульях. Людмила по-прежнему стоит, прижавшись спиной к стене, медленно отходит от стены, идет к Павлу, становится перед ним на корточки, кладет руку ему на колено, и, пока она произносит монолог, камера двигается вокруг троих, охваченных горем и смятением людей. Суховеев рассказывает как чего ему только не приписали, срок впаяли на полную катушку, без права переписки.
Людмила подавлена горем:
— Паша... Ты за мою честь... Прости меня. Виновата перед тобой. Писем от тебя не было. Последнее пришло из-под Кенигсберга. Ждала. А ответ один: «Пропал без вести». Я пять лет ждала. Ждала ежедневно. А все нет и нет известий. Решила, что убит. Мысли были только о тебе. Но встретила Виктора. Я не сразу... Но потом привыкла к нему. Полюбила его. Он наших мальчиков очень полюбил. И они его. Вышла замуж. К нашим сыновьям прибавилась дочка Ира. Ей сейчас уже шесть лет. Прости меня, я одна виновата. Виктора не вини. Не дождалась я тебя. Прости.
Она прикасается лбом к колену Павла, наступает тягостная тишина. Павел смотрит на свою фотографию. Следом за ним Дубов. Людмила поднимает лицо, смотрит на бывшего мужа, на нынешнего, потом тоже на фотографию Павла. Павел встает со стула, медленно идет по квартире, подходит к двери комнаты, в которой спит Ирочка, спрашивает разрешения посмотреть, осторожно заглядывает, смотрит на спящую Ирочку, выходит и тихонечко закрывает дверь, спрашивает про сыновей, он хочет их видеть. Дубов вдруг взрывается: кривичи-радимичи, да что же это мы! Люда, накрывай на стол! Что же это... Не по-русски, не по-человечески как-то!
Читать дальше