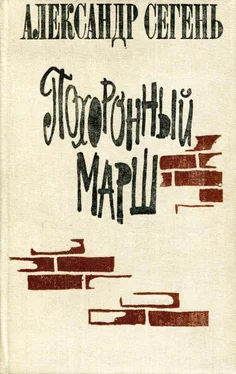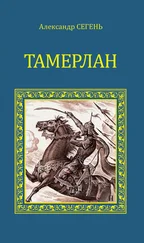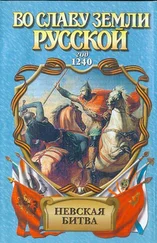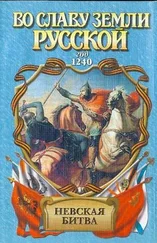Часть первая
ИГРЫ И ПОХОРОНЫ
— Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами вашими проходит похоронная процессия?
— Но кого же хоронят? Кого же хоронят? — спрашиваю я, томимый каким-то тоскливым предчувствием.
— «Прошлые времена» хоронят! — отвечает Буеракин, но в голосе его слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы…
Н. Щедрин. Губернские очерки.
Alb. The weight of this sad time we must obey;
Speak what we feel, not what we ought to say;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Exeunt, with a dead march]
W. Shakespeare. King Lear.
(Герцог Альбанский. Груз этих печальных лет мы должны снести;
Говорите о том, что на душе, а не о том, о чем подобает;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уходят под звуки похоронного марша.
В. Шекспир. Король Лир.)
Я родился в половине двенадцатого ночи 11 апреля 1961 года, и утром мою мать Анфису взбудоражили радостные, бурные восторги радио. Не поняв спросонья, где она находится, она вскочила как безумная, заметалась, потом увидела белый свет палаты и вспомнила, что вчера в ужасных муках родила меня. Будучи женщиной отчаянной, мать моя в сердцах ругнулась, и тогда грянул дружный хор:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.
— Все выше, и выше, и выше… — запела моя мать своим хриплым, испитым голосом и пошла к окну. В тот самый момент моя бабка, Анна Феоктистовна, подошла под окна роддома и копошилась в траве, собирая оброненные медяки. Ее маленькая, раскоряченная фигурка рассмешила мою мать, и она, кашлянув, засмеялась, легкие ее наполнились чудесным запахом весны и птиц, и она счастливо крикнула вниз:
— Ма-ать!
Бабка задрала голову, и моя мать хотела крикнуть, что родился я, мальчик, живой и здоровый, рыжий как черт, но в горле у нее запершило, как у большинства курильщиков утром, когда не успеешь еще выкурить первую сигарету, и она, выпучивая глаза, захрипела сиплым кашлем, а бабка, опережая ее снизу, крикнула:
— Фиска! Космонавта запустили! Наши в космосе! Как ты там?
И я был забыт, потому что в палате тогда все окончательно проснулись, завизжали от радости; те, кто мог вставать, вскочили и заобнимались. Чей-то прорвавшийся муж просыпал на пол половину подснежников и целовал плачущие, мокрые щеки своей жены; и непонятно было, чему они радуются и отчего плачут — все смешалось. Моя мать попросила у прорвавшегося мужа папироску, он достал из кармана коробку, но трясущиеся руки рассыпали папиросы по всему полу, моя мать и муж стукнулись лбами, бросившись собирать их, и, пока они собирали рассыпанное, моя мать тайком запихивала в карманы папиросы вперемешку с подснежниками, а бабка, испуганная внезапным исчезновением дочери из окна, кричала:
— Фиска! Фиска! Ты где там? Фиска! Черт-дура!
Днем моей матери принесли меня. Она назвала меня мордашечкой и стала кормить. Я зачмокал, мать взволнованно задышала в мое пурпурное личико папиросной вонью, и при каждом ее выдохе на меня обрушивался целый шквал тепла, и я бессмысленно моргал золотисто-рыжими, глуповатыми своими ресницами.
Потом, когда меня унесли, я снова был забыт, потому что в тот день все смешалось, и радиосообщения стали личным, а все личное воспринималось как нечто сообщенное в очередном выпуске новостей. Все женщины в палате, родившие мальчиков, назвали новорожденных Юрами, и моя мать тоже сначала хотела назвать меня Юрой, но потом спохватилась, что у нее уже есть сын Юра, и засмеялась, и все в палате засмеялись и впервые подумали о том, что моя мать не такая уж плохая и грубая, как это кажется на первый взгляд. Насмеявшись, она сказала:
— А как по отчеству-то? Алексеич? Ну, пусть тогда моего Алексеем. Ваших Юриями, а моего Алешкой.
На следующий день — я жил уже вторые сутки — бабка привела под окна роддома моего брата Юру, и мать показывала им меня, говоря:
— Алешкой назвала. Алешкой, говорю, назвала!
— Алешкой? Нашла как назвать! Леха. И будут все дразнить Лехой-лепехой, — ворчала в ответ бабка, а я смотрел и ничего не видел, и смотрел не вниз, а куда-то отвлеченно от всего, куда-то в яркую рыжесть слепого весеннего солнца. Мой брат Юра нетерпеливо перебирал глазами окна, не мог найти окна со мной и нашей матерью Анфисой и уже хныкал, суча ножкой. В носу у него было что-то не в порядке, и он привычно шмыгал им каждые десять секунд. Он не видел меня, а я не видел его. Стоявшая рядом с роддомом школа терпеливо вычерчивала длинную линию звонка, из дверей выпархивали освобожденные рыжие крылышки пионерских галстуков, а я только чувствовал что-то трепетное и, кроме этого чувства, не обладал ни одним другим.
Читать дальше