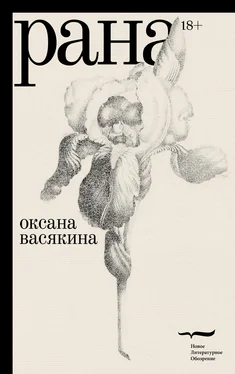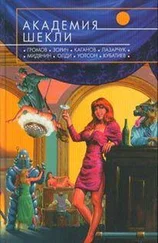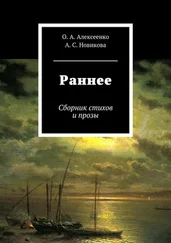Меня удивила наивность сотрудницы авиалиний. После опыта в Волгограде, где меня и маму ощупали и под лупой осмотрели документы, я ждала, что в Москве мне устроят строгий допрос. В конце концов, я могла везти взрывчатку, наркотики, да что угодно. Хоть справка о невложении из Волгоградского крематория и выглядела как липовая бумажка, на ней все же стояли печать и подпись. Она подтверждала то, что в урне с прахом нет инородных веществ и объектов. Странно, подумала я, что наркоторговцы и террористы до сих пор не используют эту схему для перевозки веществ. Хотя, может быть, и используют, просто я об этом не знаю.
Энни Лейбовиц фотографирует болеющее, а потом и мертвое тело Сьюзен Зонтаг, затем она кропотливо фиксирует умирание собственного отца. Рон Мьюек делает силиконовую скульптуру мертвого тела своего отца и впаивает в нее не искусственные или чужие, но собственные волосы. Дафна Тодд пишет портрет мертвой матери.
Фотография мертвой Зонтаг отвращает свой теснотой, это узкая горизонтальная фотография, по композиции схожая с изображением мертвого Христа Гольбейна. Там нечем дышать. Она темная и сдавливает взгляд со всех сторон. Она недостаточна, неуютна. Еще и потому, что формат заставляет нас смотреть за пределы этой фотографии. Все вокруг отвлекает нас от страшного события – смерти. Невозможно увидеть мертвое любимое тело и запомнить его. Соединиться с ним. Мир всегда будет дрожать и жить дальше, отвлекая тебя от главного – черного прямоугольника утраты. Мьюек создает объект и, чтобы заострить наше внимание на уязвимости мертвого тела, не одевает свою скульптуру. Его отец лежит голый и мертвый, на треть меньше настоящего своего размера. Мьюек боялся отца, который казался ему всегда строгим и жестким человеком; его смерть стала возможностью приручить его. Сделать своим, больше его не бояться. Как бы то ни было, работа с мертвым телом всегда подразумевает пропорциональные сдвиги. Нам просто необходимо изменить размер объекта, таким образом мы проявляем свою власть над ним. У нас есть воля распоряжаться телом и памятью, потому что мы живые.
Работа Тодд, хоть и предельно реалистична, выполнена в светлых тонах. В ней нет места черному цвету. Даже опавшая челюсть матери оголяет не черную дыру небытия, но светло-коричневое пространство. Белесые глаза старухи открыты, и всем видна светлая, тощая, впалая грудь. Это смерть в старости и благополучии. Но и здесь мы видим уменьшение пропорций: на фото в интернете я вижу саму Тодд на фоне ее картины, голова старой женщины меньше в два раза, чем голова живой дочери. Мертвые руки за счет перспективы удлинены, они, как сухие ветки, опали на белую простыню. Изображение матери Дафны Тодд – эмблема идеальной смерти. В глубокой благополучной старости, когда весь контроль, в том числе над обращением с образами твоего мертвого тела, передан близким.
Зачем они делали это? Зачем я делаю это – медленно описываю умирание и мертвое тело собственной матери? В этом есть много боли и попытки осмыслить, выписать опыт. Но есть и нота тщеславия: продолжать жить – значит иметь контроль над собственным телом. Над телами умерших близких. Я наконец присваиваю себе то, что принадлежало мне, но не было для меня доступно до ее смерти, – ее тело. И выставляю его на всеобщее обозрение, как трофей. Как рану, полученную в долгой тяжелой войне. У меня есть на это право.
Лейбовиц фотографирует спящего (или мертвого?) отца. Фотографирует его так, словно смотрит на него очень близко. Лицо отца спокойное, он лежит на подушке в цветочек. На щеках его видны старческие темные пятна, весь он сухой, как опаленная солнцем коряга, и очень маленький, как все мертвые люди. Фотография открыта смотрящим. Мне не больно смотреть на нее, мне в ней не тесно, но я знаю, что в ней дремлет смерть. Затем я смотрю на другую фотографию – в большой светлой комнате со стенами, завешанными фотографиями и пейзажиками, стоит большая медицинская кровать. Она как тяжелый блок мрамора, она светится. Она пустая. За ней в кресле сидит человек, он закрывает лицо рукой и, похоже, плачет или просто размышляет о чем-то. Фотография называется «Гостиная моих родителей». На третьей фотографии – прямоугольная яма, обрамленная широкими деревянными досками. А рядом – груда влажной и сухой земли вперемешку.
Эти три фотографии входят в большую серию «Жизнь фотографа». Лейбовиц фотографировала пожилых мать и отца, своих сестер и близких. А еще смерть и ее приметы. Это очень спокойные фотографии, если представить себе звук, который от них исходит, то это приглушенная радиопередача и звон ложечки о тарелку, утопающие в белом шуме. Там происходит жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу