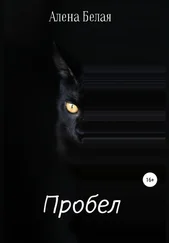Итак, какое-то время я решительно держался на расстоянии. Поначалу избегал останавливать на пятне взгляд. И, как неофит, вкладывающий всю свою веру и наивность в то, чтобы перехитрить искушение, изобретал стратагемы, призванные оградить меня от встречи лицом к лицу, которой я страшился. При всем своем отвращении к переменам и тем паче к переселению, я переставил мебель, так что стена оказалась теперь позади меня. Направляясь к письменному столу и усаживаясь перед своими книгами и тетрадями, я отводил глаза от этой по-прежнему голой перегородки — перегородки, вдоль которой мне, однако, надо было пройти, пока я добирался до стула. Естественно, я мог передвигаться, уткнувшись в книгу, стараясь погрузиться в чтение, но это не мешало захватить боковым зрением простершуюся на стене белую зону. И я не мог не заметить, что она росла вширь и к тому же казалась лишенной всякой глубинной плотности, словно в ней и через нее материя, из которой была сделана стена, переставала быть — так что, по правде говоря, не белизна раскинулась на стене, а стена просто-напросто белизной устранялась. По всей очевидности, очаг составляющей сей пробел (он имел форму пятна, но явно таковым не являлся) неплотности исключал всякую возможность сослаться на колебания, определяющие насыщенность цвета по отношению к подлежащему фону. Здесь подложки как таковой не было, и пробел, отнюдь не будучи цветом, ограничивал только внезапно видимую лицевую сторону отсутствия. По крайней мере, так мне, мимолетно, казалось, даже тогда, когда мой взгляд уклонялся от неприемлемости стены к книге, которую я держал в руках как устаревшее кормило своего рассудка.
В этот все еще предваряющий испытания период я всеми средствами уклонялся от встречи с очевидностью.
Конечно, средства, которыми я располагал, были немногочисленны. Они исключали, например, бегство из дома, погружение в городскую суету, отъезд, путешествие, скитание по далеким кварталам. Мощь инерции, определявшая и направлявшая мою жизнь на протяжении стольких лет, восторжествовала — и будет торжествовать до самого конца (словно неподвижность составляет мою единственную настоящую страсть) над тревогой и ужасом. Гнету последовательно развивающегося во мне недомогания иным гнетом (свидетельством нерушимой любовной связи, соединявшей в моем одиночестве меня с самим собой) отвечало ощущение приемлемости момента — благодаря чему, зная, что наступающее по необходимости происходит внутри меня, я придерживался выпавших мне места и времени. В самом деле — и тут не было никакой заслуги — мне незачем было выбирать иной путь, незачем суетиться, не надо было ни выходить, ни добиваться каких-то сближений, ни вступать в политику чуждых моему существованию желаний.
Тем не менее мне не хватало силы, чтобы принять проникающую в меня истину с любовью. Ее побочное, маргинальное и тут же подавленное в и дение, коим я обладал, сулило на тот момент толику духовных терзаний, несоразмерных мирной заурядности моей души. И так как единственная лазейка открывалась передо мной в чтении и письме, я щедро уделял время тексту, который давал мне возможности рассеяться. Посему я пошел на поводу у многообразности — изобретал ситуации, приумножал действующие лица, выискивал в реальных подробностях точку опоры для своего пребывающего в бегах воображения, даже если это не сулило случая ввязаться в приключения, которые меня не касались, и, возможно, забыть то, в которое я, пусть о том и не думая, все же оставался вовлечен: короче, забыть самого себя. И поскольку пробел взывал к чему-то предельно внутреннему и уж всяко к пределу возможностей моего самосознания, я, в своего рода паническом противодействии, с необычным неистовством, которое в благоприятных условиях могло бы сделать из меня романиста или историка, подвигся на сочинительство о чем-то совершенно внешнем. Я говорил себе, что пока удается продержаться за переплетающимися судьбами персонажей книг и нескольких лиц, которых я знал и которые сыграли определенную роль в моем детстве и юности, искушение пустотой мне не страшно. Успокаивал себя, убеждая, что здесь мне не может грозить никакая глубинная опасность, пока я способен прилагать старания к тому, чтобы пройти дорогами, проложенными другими, на память и по желанию повторяя в себе наполнявшие их жизнь интриги, поступки и события. В этом смысле открывавшиеся передо мной возможности бегства казались безграничными. На руку мне играло и отсутствие творческого воображения. Не имея за душой ничего по-настоящему личного, я мог войти в жизнь других, присвоить их опыт и извлечь если не материал для оригинальных книг, то, по крайней мере, пласт труда, способный удержать меня на расстоянии от кошмара.
Читать дальше