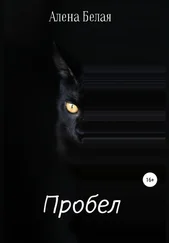Я, однако же, как нельзя далек от того, чтобы уподоблять свой внутренний опыт переживаниям верующей и грешной души. Лишенный всякого религиозного фундамента, он разворачивался и продолжает разворачиваться в банальной оставленности Богом. Если я рассказываю об этом, то вовсе не для того, чтобы обмануть и убедить самого себя, будто вступил на путь мистического свершения. Скорее уж для того, чтобы обозначить разрыв между собственным прозябанием и тем уровнем бытия, который принесли на землю верующие и перед лицом которого приключившееся со мною низводит меня до нуля — достижение, впрочем, вполне сообразное тому, что в своем непосредственно чувственном обличье исходно было событием, из коего вышли мое нынешнее сердце и сердце моего сердца.
Представим себе, в самом деле, в безликий час совершенно недвижного дня на стене прямо передо мной, примерно на уровне лба, белое, чуть поменьше ладони, пятно. Может статься, оно уже было там, на обоях, какое-то время, но я замечаю его впервые. Поначалу убеждаю себя, что бумага могла обесцветиться от избытка солнечного света. Но почему именно в этом месте и внутри четко очерченного контура? Если бы речь шла о последствиях солнечного облучения, пораженная поверхность оказалась бы куда обширней и я, несомненно, мог бы различить переходы и градации выцветания, поскольку оно, развиваясь последовательно, привело бы к постепенному перепаду от более темных участков обоев к этому светлому, представшему теперь тусклым очагом белизны. Тогда я делаю предположение — ну да! всякое явление требует объяснения, — что в покрывающей стену штукатурке отсырел, не иначе, какой-то участок и солнце, подсушив, его высветлило. Это объяснение кажется достаточно правдоподобным и до поры до времени отвлекает внимание от объекта и проблемы, которую он передо мной поставил.
Позже, уже в сумерках, мой взгляд снова останавливается на пятне. Меня изумляет, что оно откровенно белое и к тому же лишено в моем постепенно меркнущем крохотном универсуме всякого блеска. Сижу за письменным столом, а передо мной, прямо посреди стены, с предельной четкостью красуется оно, почти что круглое, решительно отбросившее цвет. Долго разглядываю его, мало-помалу забывая о связанных с ним вопросах и целиком отдаваясь играм очарования. Уже спустилась ночь, очень нежная, фруктовая, полнимая исходящим от города бесконечным ропотом. Безо всяких оснований выхожу из своего созерцания и, внезапно подумав, что пятно на стене — всего лишь эффект лунного света, смотрю в открытое окно, взошла ли уже луна. Но луны нет и в помине. Небо совсем темно, комнату охватил сумрак, стена тонет передо мной в мутной тени — за вычетом белого пятна, — пятна, которое я называю белым по контрасту с тенью, хотя оно, не нуждаясь ни в какой проверке, уже навязывает себя как неоспоримое упразднение самой возможности цвета. И я отлично знаю, что дотошная проверка разве что подтвердит это толкование — самое опасное из всех... Не потому ли и сопротивляюсь подступающему желанию «рассмотреть его вплотную» и потрогать руками во имя другого, бесконечно более насущного, нежели естественное любопытство, желания: потребности увериться, что я не дошел еще до точки, где иллюзия становится реальностью, где субстанцию заражает отсутствие, где пустота обретает силу закона. Острое желание безопасности вынуждает меня отложить изыскания и склоняет поверить, что я — жертва редкостного оптического явления, вызванного, может статься, нервной усталостью от чрезмерного внутреннего напряжения. Итак, решительно встаю, добираюсь до постели и закрываю глаза.
Проснувшись посреди ночи, я долго удерживался от взгляда на стену, настойчиво, с обдуманным терпением стараясь восстановить в памяти захватившее меня, стоило задремать, сновидение. Его — я до сих пор так и не могу его забыть — можно было бы назвать грезой об отсутствии. Я что-то искал, но ничего не было. Кого-то звал, но никого не было. Снаружи — если и в самом деле было снаружи — не простирался никакой пейзаж. Я двигался в нейтральном, лишенном всякой обстановки пространстве. Мое физическое одиночество выходило за рамки всего, что я прежде был способен помыслить по части обособленности, замкнутости и отстояния от мира. Мира как раз и не было. Не было предметов. Пространство, где я перемещался (ибо я, шаг за шагом, с растущей усталостью, продвигался вперед), не отличалось сколько-нибудь значимыми качествами, кроме одного — своей бесконечности. Не было объективных привязок, чтобы его определить, — словно речь шла о некоей пустынной протяженности, заброшенном пляже, к примеру, или городской площади, школьном дворе, спортивной площадке, проспекте или гостиничном коридоре, когда они вдруг оказались полностью заброшены и сведены к нечеловеческой пустоте своей топологической сущности. В моем сне подобный аскетизм места оказался далеко превзойден: никакого образа никакой вещи, никакого впечатления плотности или объемности, способной приободрить сновидца и сообщить ему, по крайней мере, чувство материального состава, на которое его перемещения могли бы опереться и обрести явную поступательность. Что же до безраздельно царящей тишины, она не сводилась к затиханию ропота жизни, ее не наполняло никакое органическое развертывание. В ней не было ни плотности, ни напряжения, ни глубины. Ее не определить никакими чувственными качествами: не только отсутствие звуков, но и сама немыслимость их возникновения, — так что направленные к несуществующему призывы или крики не пересекали порога моих губ, и в подтверждающей пустоту пространства пустоте слов я отныне только и был что телом своей тревоги.
Читать дальше