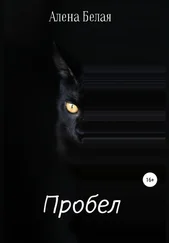В безликом однообразии одиноких часов, отведенных то трудам, то грезам, между кроватью, рабочим столом и находящейся напротив стеной, я сокровенно наслаждался глубоко монотонным характером своих занятий. Некоторым образом, все они имели характер и смысл ритуала. Так, например, их обрамляли предосторожности и предварения, призванные подчинить мне нейтральную зону пространства и времени, только за пределами которой могли развернуться такие действия, как чтение, письмо или периодическое приведение в порядок моих бумаг.
Короче говоря, самые наполненные часы непременно требовали изрядной доли пустоты. Ну а та в равной степени проявлялась как в потребности в симметрии, определявшей расположение окружающих меня вещей, так и в повторении одних и тех же действий в одни и те же моменты в одной и той же последовательности. Впрочем, то была главная причина, которая навязывала мне чтение крайне объемистых сочинений и подталкивала к написанию некоей, вечно все той же, книги, способной завершиться (запнувшись на самой себе) только с моею смертью. Мне, в чтении и письме, нравилось прослеживать одни и те же слова, одни и те же ритмы фраз, одну без конца подхватываемую мысль, все ту же без конца повторяемую, несмотря на свою исчерпанность, историю. Из упорства, с которым глагол придерживался чистой тождественности, для меня проистекала своего рода неподвижность духа — иногда мне случалось называть ее скукой , тогда как она в равной степени была полнотой и блаженством.
Если я счел должным походя настаивать на определенном образе жизни и бытия, каковой в эпоху, о которой призвано свидетельствовать сие повествование, определяла по сути своеобразная обустроенность моего существования, то потому, что с тех пор я вроде бы понял: исключительное событие, ставшее отправной точкой моего приключения (покамест единственного и наверняка последнего приключения), оказалось до некоторой степени предуготованным моими чувствами и мыслью, так что вторжение в ход вещей иного, головокружительно фантастического порядка, о чем я намереваюсь дать по возможности точный отчет, на самом деле лишь физически проявило то, что духовно уже существовало, — ибо главная встреча с материей по сути не слишком отличается от любой встречи с людьми (с другим или с самим собою): в скудости пространства и времени она вершит то, что с самого начала разыскивалось в глубинах сердца (так что история — не более чем наивное, слегка непристойное и смехотворное проседание вечности).
Что же до вполне материальных фактов, которые один за другим обнаружили себя в тот момент моей жизни, я едва ли склонен преувеличивать их значение. Для меня эти факты далеко не столь значимы, как последовавшие за ними решения — или, скорее (ибо волюнтаристские отголоски слова решение плохо передают сущность моего опыта), как прогресс, или даже просто-напросто продвижение, достигнутое мною в дальнейшем на стезе пассивности. Добавлю все же, чтобы покончить со всеми предварениями, что состояние безразличия и бесчувствия, в коем я тогда пребывал, вовсе не являлось следствием какого-то кризиса, упадническим аспектом обманутого рвения. Хотя память не слишком полезна, когда дело касается весьма неопределенного течения моей истории и особенно юности, мне вряд ли удастся обнаружить у себя в прошлом смятение страстей или приступы энтузиазма, в которых пробили брешь жизненные реалии. По-моему, накануне того дня, когда произошло событие, я был точно таким же, как и всегда: бесцветным существом, укрывшимся от собственных желаний, в стороне от бередящих мир конфликтов. Я ничего не ждал, ни о чем не сожалел. Я без усилий и страданий довольствовался донельзя заурядной жизнью, что не исключало минимальных услад одинокой мысли и еще более одинокой плоти. Жил в бедности и безвестности, но, в общем и целом, соразмерно своим потребностям. И тем не менее присущее мне тогда сознание собственной ничтожности оставалось в высшей степени поверхностным. Я хочу сказать, что оно развилось во мне как бы за неимением, через изъятие, через серию отступлений, неявно соотносившихся с очевидной социальной данностью: я без удовольствия и горечи видел, что исключен из окрестной жизненной суеты, из сферы пребывающей для меня недоступной инаковости, отторгнут преизбытком движений и непрозрачностью обычаев. На той стадии моя ничтожность являлась отражением физической неспособности установить связь и включиться в дело. Я не мог и вообразить, что придет день, когда она, перевернув смысл, — в чем совсем не было моей воли, я всего лишь предоставил почву, которую возделывают и которая этому уступает, — сможет достичь глубин духовного опыта, пред лицом коего полностью потеряют все свое влияние самые элементарные привязанности, до сих пор позволявшие мне сосредоточиться на сиюминутных радостях и составлявшие смысл моего существования.
Читать дальше