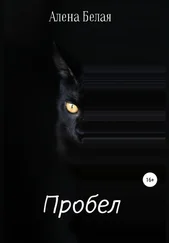Растущее загрязнение обоев подавало достаточно ясный знак, что проходило время — что проходили мы. Но поскольку сие изменение мира вершилось едва уловимо и было созвучно моему собственному старению, я присутствовал при процессе трансформации, в котором тождественность никогда всерьез не подвергалась опасности. И в этом было нечто успокоительное. Глядя на стену, более несомненную для меня, чем все остальное, на которой в любой час дня прослеживались внутренние отношения тени и света, я чувствовал в себе становление — не переставая быть тем, чем был. Было бы это возможно перед каким-либо другим предметом в мире? Вряд ли.
Ко всему прочему, нужно также отметить, что я почти не пользовался электрическим освещением. С тех пор как я стал жить один, я подстраивался под дневной свет, и, в зависимости от времени года, дни мои то растягивались, то сжимались. Через окно на последнем этаже старого, высокого дома, возведенного на склоне холма, свет проникал ко мне с небес в достаточном изобилии, и я относил к числу скромных удовольствий, которым старался не поддаваться, изменчивое насыщение своего домашнего пространства светом и тенью. Поскольку я никогда не закрывал ставни, а окно мое выходило на запад, выпадали мгновения потрясающей красоты, когда золотые тона, сплавляясь с гранатовыми, захватывали все протяжение стены, и та дрожала, трепетала, вздувалась, словно плоть, счастливая быть плотью.
В подобные моменты, как и в другие, когда выдавалось совершенно особое освещение, я оказывался странно взволнован при мысли, что предо мною раскрыто все небо моего города. Не было нужды выходить на улицу и смешиваться с толпой, чтобы проникнуться сопричастностью сей важнейшей реальности, которая, так сказать, входила в определение столицы, где я был рожден и где своему предельно замедленному течению следовала моя жизнь. Этот город стал для меня духовным опытом, и омывавший его зачастую смутный свет постоянно возбуждал мой интерес к кругу истины, в котором вещи суть уже не они сами и не их отражения, но входят в нечто иное и размываются в множественных и постоянно ускользающих значениях, — словно свет обладал здесь водной природой и служил жизненной стихией тому, что не переставало рождаться: личинкам, планктону, водорослям, Сатурнову семени. То была сама безграничность. И когда туманы — легендарные — замешивали, в своем застое, всю целокупность стихий, город и мысль, как плоть и ее дыхание, более не разъединялись: в глубине своей косности внутрь самого себя сочилось единое для всех вещей сердце. А я, как утонувший в любви атом, без остатка отдавался баюканию времени.
Мне все же следует, наверное, признать: вообще говоря, в дневном свете не было ничего особенного, и я уделял ему весьма поверхностное внимание, замечая разве что порой, в полном счастье, изысканность его переходов. Погруженный в тусклое межсезонье, мой крохотный универсум не ведал сильных эмоций. Эстетические неожиданности, как и озарения духа, случались в нем довольно редко. Что до остального — я имею в виду банальную сферу любви, пола, чувственного влечения и привязанности к отдельным лицам, — сей круг действительности меня ничуть не занимал. Я жил в состоянии глубокого безразличия к реальности других и без всяких усилий держался в стороне от желаний. В одиночестве, которое я выбрал и в котором укрепился, не было ничего особо достойного. За ним стояли скорее повадки моей плоти и естественное нерадение темперамента. В глубине я был предрасположен к подвижничеству никак не более, чем к распущенности. И если обретал, безмятежно пестуя свою скуку, определенную полноту удовлетворения, то потому, что в мое ощущение жизни (какую я вел) входили два в высшей степени успокоительных и благотворных качества: неспешность и повторение.
Исключая по возможности отношения с другими, строго ограничивая взаимодействие, отказывая себе в речи, движении и поступках, я не ведал спешки, ускорения да и просто напряженности. Конфликты амбиций, склонность к самоутверждению, к господству и обладанию, средоточение энергии вокруг личной власти — все это поле опыта было мне совершенно чуждо. Я не вступал ни в соперничество, ни в игру сил, которые оно пускало в ход... Но опять же, в отличие от тех святых отшельников, чьи жизнеописания так меня очаровывали, за мною, чтобы вести подобную жизнь, не значилось никаких заслуг. Она была не завоеванным плодом, а скорее уж проявлением вызревания — простой тяжестью бытия, привычкой, а не достоинством.
Читать дальше