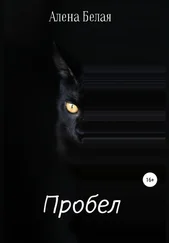ОПАСНОСТЬ ПОДСТЕРЕГАЕТ НАС ПОЗАДИ
Одному Богу, однако же, ведомо, многочисленны ли были сиюминутные опасности и требовались ли от меня бдительность и хитроумие. Но сии опасности, способные накапливаться и обретать форму, принадлежали в некотором роде к разряду развлечений и смогли несколько позже вылиться в биографические эпизоды. Напротив, рисуя — извлекая из собственной доли темноты фигуру двойной тени в сопровождении необычного комментария, — я ссылался на глубинную опасность, вне сцеплений памяти и воображения, несоизмеримую с уроками моей истории.
И вот воспоминание об этом рисунке вернулось ко мне в тот вечер с навязчивостью вопрошания, с внутренней необузданностью — и, так сказать, властностью, — предвестницей небывалого откровения, как раз тогда, когда на стене у меня за спиной все четче проступал знак пробела. И я уже понимал, что событие, вершимое в материальности окружающего мира, в конкретной конечности сего жилища и во времени, которое могли точно определить часы и календарь, было предуготовлено ранее, в духовной сокровенности моего отрочества; что оно, в общем и целом, тайно вызрело как некое коренное решение самого моего существа — что оно никогда не оставляло меня на протяжении всех этих лет, несмотря на вполне заурядные превратности личной истории; что оно было моим творением, точным плодом всего моего существования; что в попытках его отрицать, отринуть, от него ускользнуть крылось не просто малодушие, а элементарное тщеславие. Пришло время признать очевидное.
Признать очевидное... Выражение из тех, чья пресность и бесформенность побуждают из элементарных требований письма его отбросить. Но здесь внутренний опыт был способен вдохнуть новую жизнь в самые нейтральные формулировки. Ибо в действительности речь шла о том, чтобы признать актом безоговорочной сдачи чувственную очевидность поразительной странности и символической мощи, каковая противостояла во мне любой попытке к обсуждению, объяснению, рациональности.
В очередной раз, как и при пробуждении от своих сновидений, я испытал счастливое ощущение предельного совпадения того, что снаружи, и того, что внутри, наличной реальности и вызревших в прошлом предчувствий. Вот-вот мне придется встретить лицом к лицу всеобъемлющую тревогу, выпутываться в своем одиночестве из немыслимой в сущности ситуации. Я достиг неотвратимого мгновения, когда одним махом окажутся сметены самые элементарные основания безопасности и идентичности. Но в тот момент, сидя за письменным столом, я смаковал и длил наслаждение, охватившее меня от непреложной достоверности: это событие, при всей своей странности и чистой новизне, было просто-напросто повторением — оригинальной и небывалой фигурой бесконечно предшествующего коловращения, во тьме коего целиком коренился смысл отсутствия смысла.
Итак, я сидел у себя в комнате. В открытое окно с чудесной, чуть ли не балетной легкостью вливались нежные, по времени года, сумерки. На столе, прямо передо мной, расстилался лист белой бумаги, который я готовился исписать в ту минуту, когда на меня нахлынули грезы и воспоминания. Быть может, этот чистый лист и напомнил мне внезапно о рисунке с тенями, о времени, когда я его нарисовал, о том странно опередившем меня прошлом, когда складывалась речь, обретшая сегодня свою завершающую точку. И вдруг я ощутил желание воспроизвести тот рисунок Он в достаточной степени отпечатался у меня в памяти, чтобы я мог решиться на подобный опыт. И я потянулся было за карандашом или ручкой, когда мой взгляд вернулся, на сей раз куда определеннее, к лежащей прямо передо мной белой странице.
Я не относился к тем поэтам высокого полета, которые в ожидании невозможного глагола могли подпасть чарам «хранимых белизной листов». Я подходил к письму безо всяких претензий, по части не столько искусства, сколько работы. Да и вообще, до недавних пор я был переводчиком и работал с вульгарной латынью монашеских текстов. Только в последнее время, тревожимый все той же внутренней необходимостью, что толкала меня к плетению перипетий со множеством персонажей, я приступил к своего рода Gesta Fraticelli, Деяниям меньших братьев, тексту, в основном вращавшемуся вокруг биографии Убертино да Казале [3] Убертино да Казале (1259 - ок. 1329) — итальянский теолог, монах-францисканец.
. Я писал эту историю, не слишком сдерживаясь, без особых хлопот примиряя вдохновение романиста с формальной строгостью филолога.
Читать дальше