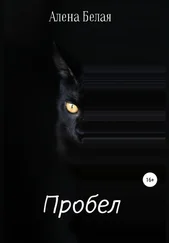Эта белая страница, по которой я своим торопливым почерком собирался ринуться в бегство, вот она замирает, вот утверждается сама по себе, вне меня, вне досягаемости, и сигнализирует банальным фактом того, что она здесь, замерла в пустоте, о полной тщете моего проекта. Внезапно я понимаю, что могу сделать нечто иное, а не рассказывать истории, и если намерен встретиться с собой лицом к лицу, то уж точно не множась в фантомах исторических или легендарных жизней. Писать не должно означать рассказывать. Не знаю, каким может быть смысл письма, буде такой имеется, но знаю, что со своим ворохом заметок, ссылок, исторических данных и психологических портретов выбрал неверную дорогу. Внезапно подчиняясь радикальной белизне пустой страницы, я замечаю, что, прежде чем думать о письме, мне, как подсказывает присутствующее здесь, в сей дотекстовой девственности отсутствие , нужно ступить на другой путь — тот, что отвергает самое побуждение к попранию чистоты. В попытке определиться мне следует прибегнуть не кУбертино да Казале и не к какому-то иному герою духа, обратиться не к письму, а молчаливо, в тайне, с поклонением приблизиться к ядрышку белизны на дне вещей, стремясь, в пустоте все более пустого сердца, с ним отождествиться, вобрать его в себя, с ним сочетаться — стать наконец той белизной, из которой я вышел и которая меня ждет.
Долго я так и оставался, разглядывая белую страницу, которая, так сказать, заняла весь мой письменный стол. Замерев поначалу над ней в напряжении, с желанием овладеть ею пером или карандашом, я постепенно успокоился. Мало-помалу я пришел к выводу, что с тех пор, как из моей памяти стерлись воспоминания о счастье, на мою долю не выпадало лучшего мгновения. Ибо именно в этой точке времени уравновесились внешнее и внутреннее, вещи вне меня и мое самое глубинное желание: желание оказаться лицом к лицу с самим собой, как у основания стены, которую нужно наконец преодолеть — или умереть перед ней. Я рассматривал незапятнанную страницу и видел в ней своего рода программу жизни, для воплощения которой требовалась бесконечная настойчивость, или же модель существования, с которой в усвоенной мною культуре ничто не могло сравниться — ибо все прочитанное мною в «Патрологии» Миня о духовности пустынников и теологии ограничения, об уходе в себя, отсутствии и пустоте, ссылалось на Бога христианского откровения, чьи тройственные ипостаси наполняли присутствием и смыслом все то, что, впрочем, описывалось как праздность желания и пустотность бытия — так что отсутствие смысла оказывалось просто иллюзией, связанной с греховным положением человека, каковое, конечно же, необходимо углубить до самого конца (если только это возможно — в чем я в тот момент сомневался), чтобы, обратив опыт, возобновить отношения с божественной трансцендентностью и Благодатью, коей та неминуемо наделяет достаточно прозорливого и смиренного грешника. Таким образом, я видел себя на перекрестке и в точке разрыва, где расходились христианские писания с их доктриной спасения и чистый и неоспоримый опыт пустоты, предлагаемый белизной простертой у меня на рабочем столе бумаги. Вот почему я жадно вглядывался в сей внезапно дарованный мне фрагмент зеркала и, подобно множеству других, стремившихся через фрагменты к зрелищу целого, продвигался в простом и надежном труде, внезапно повторенном собою в себе самом, к образу своей судьбы, пребывающему в согласии с моим молчанием, одиночеством и нуждой.
Быть может, я долго так и оставался, не двигаясь, едва дыша, пристально вглядываясь, ожидая без ожидания, вопрошая без всякой мысли и получая, хотя ничего не просил. Час оказался просто безбрежен. Книга закончилась полной незавершенностью. Ничто более не докучало. Несколько осознанных планов, сложившихся было вокруг работы над этим сочинением, зияли своим внезапно пресеченным чванством. Я был здесь ни при чем — меня уведомляла о том белая страница: я был здесь как бы ничем. Все продолжалось ровно столько, сколько нужно. То, что происходило, следовало закону духовного роста, а он не имел ничего общего с конвульсиями истории. Приятие — вот все, что мне оставалось.
Когда я наконец поднялся, я полностью это осознавал. И велел себе готовиться к наихудшему. Но кто рискнет утверждать, что знает свое сердце?
Я еще не забыл, как медленно разворачивалось это мгновение, последний фрагмент времени, в котором еще сохранилось нечто выразимо человеческое. То, что должно было воспоследовать, сразу же устранит всякую соотнесенность с общим опытом и надолго обречет мои слова на полное бессилие. Прежде всего я вспоминаю о взгляде, который бросил на чистую страницу, прежде чем повернуться к стене. Я сказал себе, будто речь шла о том, чтобы разом подытожить всю совокупность своих знаний — чтобы в последний раз удостовериться и тем самым, возможно, спастись: эта белая страница и впрямь чиста; последняя и не имеющая конца страница не написанной мною книги, чье заведомо недосягаемое завершение она означает; она не ждет никакой надписи; нет ничего белее и пустее этой страницы; и я рассматриваю ее как таковую, потому что сам и есть белизна и пустота, которым нечего выразить; она здесь, мы здесь, мы с ней одно и то же, такое белое и пустое; только это и надо знать; не может произойти ничего тягостного, ничего мучительного или бесповоротного, пока я придерживаюсь материального свидетельства: вот совершенно пустая в своей белизне страница, и у меня перед ней нет иной мысли, кроме ее пустоты и белизны; ибо это действительно страница — и несть другого определения.
Читать дальше