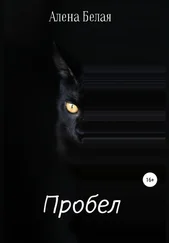Итак, в непрерывности абсолютно невыразимого испытания всех своих чувств я видел, как мало-помалу растворяется то, что осталось от стены, будто материя пускает себя же ко дну, будто на основании недоступного мысли и отменяющего физику решения отказывается упорствовать в своем субстанциальном статусе. Когда стена была полностью уничтожена, пустотная болезнь перекинулась на дверной косяк и саму дверь, так что в свой черед изгладятся и они, незаметно источенные изнутри, не оставив иного следа, кроме призрачной белизны, чья вездесущая бесплотность вызывала у меня тошноту.
Ну а я, я держался на ногах, но без энергии, настигнутый столь безмерной усталостью, что мне переставал даваться смысл моего присутствия в этом месте. В смертельно затронувшем мой универсум утомлении бытия в свою очередь распались и границы между днями, между временами года. Бежали пространство и время, бежали ритмы. Через выходящее на город окно ко мне не проникал более свет, не доходил снаружи шум, ничто чуждое не просачивалось на медлительное и неотвратимое продвижение белизны. И, в свою очередь, безмолвно опорожнялись от своих видимостей вещи, теряясь в безвидности пустоты.
Можно было бы нескончаемо и бесконечно скучно отчитываться, как из этого мира изгладились вещь за вещью, как каждая без сопротивления поддалась белизне, впиталась в самое себя, то есть в пустоту и отсутствие, и исчезла, не оставив другого следа, кроме ореола пресности в великом покое несуществования. Процесс разворачивался с предельной медлительностью, и время, ушедшее у меня на присутствие при сей цепной порче материи, при ее разложении и окончательном распаде, на шкале внутреннего опыта было без малого бесконечным. Материальный универсум, в котором я прожил несколько лет и который казался мне во многих отношениях близким к убогости, в плане недужности предстал поразительно многообразным. Распадались смешения, наложения, наслоения, и вещи, одна за другой, сами в себе рассеивались и в прямом смысле слова отсутствовали. Место, где я обитал, иссякало, как иссякают миры, — следуя сокровенному продвижению упадка, тянущегося столь долго, что память о нем истощается задолго до того, как все поглотится. Да, мне часто приходило в голову, что воспоминание о той или иной вещи исчезло во мне еще до того, как она окончательно канула в собственное небытие.
Но это нескончаемое исчезновение материи, случайным образом распределяя своего рода патетическую отсрочку, принесло мне — так, что поначалу я этого не понял, — временное отступление болезни, необходимое для радикальной духовной трансформации. По правде говоря, именно о ней-то я и хочу сказать с самого начала, вместо того чтобы неуклюже пробираться на ощупь среди последних крох впечатлений, которым еще позволяет остаться во мне победительная белизна.
Да, моему прозябанию среди вещей всегда не хватало некоей весомости. Будучи человеком бездействия, я жил в постоянной заботе не нарушить строй реалий, которые окружали меня и с которыми я имел дело. Я скорее претерпевал мир, нежели встречал его лицом к лицу. И мое отношение к сущему — как к людям, так и к предметам — проистекало из глубинной инертности, постоянно помогавшей мне проходить через заурядные жизненные испытания. Я предоставлял событиям происходить, времени — разрешать кризисы. Насколько возможно ограничивал свои внешние действия и избегал категорических решений и рискованных начинаний. Если мне подчас доводилось испытать возмущение, оно никогда не доходило до бунта. Редко эмоции толкали меня на поступок. Они вытеснялись в лимб невыраженного. И вообще, в мало-мальски затруднительном положении я вверял себя силе инерции. Моей единственной системой защиты от окружающих угроз была неподвижность. Неподвижность и молчание — ибо моя собственная речь, как только ей приходилось отвечать или объясняться, избегала слов. Так и протекала моя жизнь в приречном городе, где вместе с водами текло пространство, а цвет небес пропитан неуловимым оттенком грезящего взгляда. До того как я оказался поставлен перед невыносимой очевидностью сей лишенной чего бы то ни было белизны, внезапно явившейся в самом сердце моего универсума, жизнь была для меня всего-навсего немым течением и грезой об этом течении. Надежды и отчаяния, ожидания и разочарования, труды и трудности прошли как та, другая улыбка на дне любой улыбки не ведающего о себе лица, — меньше чем след, меньше чем тень, меньше чем вздох... и совсем крохи воспоминаний, пережитого. Я был олицетворением неустойчивости.
Читать дальше