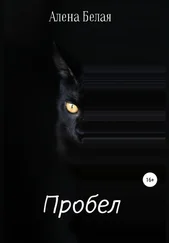В постоянном и радикальном самосредоточении всего моего существа я открывал, что любовь к другому — будь то личность или предмет — всего лишь неуклюжая и досадная метафора любви к пустоте, где только и может исполниться твое предначертание: в отречении, в отказе от самости, в абсолютном стирании своего присутствия. Того забвения собственных пределов, коего тщетно взыскует в грезах о могуществе и обладании влюбленный, как я теперь знал, насмотревшись на белизну, можно достичь, лишь с полным смирением подчинившись закону отсутствия. Бытие было всего-то фантазмом, существование — бредом. Любовь не имела никакого отношения к жизни. Если она и была, то разве что как любовь к смертному и, по ту сторону всего смертного, к пустоте как лицу небытия — отсутствующему лицу на донышке единственно необходимой красоты.
Прежде я полагал, что моему желанию вполне достанет форм. Теперь, когда формы оказались упразднены, оно стало обширнее, чем когда-либо, более одиноким, и я открыл, что оно никогда не имело в виду ничего другого, кроме отсутствия, с беспредельной неутолимостью связующего его с самим собой. Как бы я иначе не впал в ужас и бессилие? Коли я оставался здесь, коли держался, объятый пустой белизной, на ногах, желание мое должно было быть отнюдь не позывом к обладанию. Моя все более чуткая к себе неподвижность учила: любовь непременно подразумевает превращение в добычу, принимаешь только то, что так или иначе представляет и возвещает бесконечную смерть.
Подобные идеи пролили во мне свой свет позже, по мере того как я вновь обрел смысл слов и окончательную причину письменно их фиксировать. Возможно, поговорю об этом в другой раз. Сейчас же, дабы с этим покончить, хочу лишний раз сказать, что сталось с миром, где я пребывал, пока по ту сторону всякой выразимой тревоги приближался к невыразимой любви, самой ужасной из всех, — к любви к пустоте, корню любой возможной любви.
Одна за другой оказывались затронуты занимавшие пространство и определявшие мое пребывание здесь вещи. На поверхности проступало крохотное белое пятнышко. И мало-помалу расширялось; вроде бы наносное, развивалось в глубину этаким кариесом непорочности. Казалось, будто материя, не оставляя следа, переваривает самое себя. Мир — или то, что в его непосредственной, согревающей близости я испокон века таковым считал — очищался от своей осязаемой реальности. Самым странным было то, что вещи — вполне заурядные вещи, которых я держался (и которые в некотором роде до тех пор поддерживали меня), — как только их касалась белизна, переставали функционировать как таковые (обиходные, практические или эстетические) и не представляли больше ни малейшего интереса. Я с безграничным безразличием созерцал, как они растворяются, сами по себе распадаются, мало-помалу отделяясь от всех мыслимых функций и опустошаясь в пустоту. Или, скорее, то, что я наблюдал, стоя в неподвижности, было уже не вещами, заботу о которых я утратил, а самой пустотой в белизне отсутствия. И созерцание это не пробуждало во мне ни малейшей мысли. Отказавшись даже от самых элементарных попыток объяснения, я утратил вкус к образам и смысл слов — словно моим духом овладела пустота вне меня, чьим пассивным свидетелем я оставался, и, созерцая среди прочего мандалу безраздельно и бесформенно царящего здесь пробела, я созерцал свой пустующий и невыразительный внутренний мир, так что пограничье между объективным и субъективным постепенно сходило на нет. Лишь тело тяжеловесно и прозаически навязывало мне свою вечную обособленность.
Мне наверняка уже снилась подобная ситуация. Я вроде бы потом об этом вспомнил, восстановил если не в точности привидевшиеся во сне образы, то, по крайней мере, общее впечатление вескости и вертикальности, как у одиноко стоящего тела, присутствующего, но не действующего при обрушении всей житейской декорации: сны бессилия, но и упорства, когда не ухватиться за вещи; сны тела ни о чем и ни о ком — без зрения, без соприкосновения, в тишине, что сводит на нет даже ощущение дыхания и прочие плотские шумы.
Впрочем, вполне может статься, что подобные сны исподволь, неосознанно подготовили меня без колебаний пережить то, что я тогда переживал, и более того — извлечь отсюда своего рода духовную пищу, как из опыта за гранью любого опыта. В этом смысле могу сказать, что сон был для меня глубоким и незаменимым ученичеством в любви, — если верно, что любить означает прежде всего прильнуть к темноте.
Читать дальше