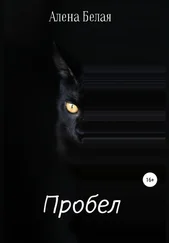В детстве мне кто-то сказал, или я прочел об этом, что утопленник, прежде чем окончательно потерять сознание, видит, как в своего рода внутреннем спектакле разворачиваются пространные эпизоды своего прошлого... Вся его жизнь , уверяли меня. Это отмеряемое погружением в воду погружение во время совершенно по-особому подействовало на мое детское воображение. Но так как прошлое уже смешивалось во мне с грехом, я представлял себе предшествующие потере сознания видения как своего рода последнюю, без шанса на прощение, исповедь: бесполезный спектакль, чьи монтажные переходы заданы раз и навсегда, без возможности повтора или изменения. Поздно, бесповоротно поздно просить о прощении.
При чем-то подобном я теперь и присутствовал. Но вместо связного и драматического развертывания жизни (на что я так долго и так тщетно надеялся) я поставлял отверстое настежь место для речей, что некогда были, не иначе, моими, но лопнули в словесном метеоризме и рассеялись с окончательным бессилием моего духа вновь уловить их и удержать. За этим крахом нескончаемо падающих одно за другим слов я уже не отличал, где культура, а где опыт, где моя история, а где рассказ о чуждых моему и тем не менее духовно с ним связанных существованиях. Знание очищалось от самого себя. Расторгались отношения. Память о слове выворачивалась во мне наизнанку, как можно опростать перину от пуха и скопившихся в ней сновидений.
Поначалу массированное и чрезмерное, это исторжение наружу моего словесного нутра мало-помалу просеивалось, и тишина между словами, которые сами по себе, полагал я, становились все ближе к последним, растягивалась, удлинялась, без усилия или сожаления тянулась до бесконечности — словно во мне, в той глубинной деятельности сердца, что правит судьбами речения, ширилась пустота некоей вовеки несказанной белизны. Слова пресекались. Не донимал более своими каплями ливень смутных припоминаний. Тут одна, там другая. И все. В полном молчании разрежалось дыхание, составлявшее, покуда я держался на ногах в пустотности мира как в каверне собственной полости, всю мою жизнь. Уже не приходилось говорить, что я счастлив. Только не здесь.
Как получается, что даже в самой законченной неподвижности одно мгновение в конце концов приводит к другому и все же проходит время, так что провал в истории сам складывается в историю? И почему из отказа от образов и знаков в конце концов рождается некий образ, словно бы просто прыснув из неведомо какою милостью обретшей плодородие пустоты души? И почему именно такой? — вот этот, стало быть, ныне и присно, образ: неощутимо подрагивающее острие гномона солнечных часов и рисунок их циферблата, на котором я прочел надпись, подточившую, когда мне было лет шестнадцать, мои тогдашние представления о мире и самом себе:
UT CUSPIS
SIC VITA FLUIT
DUM STARE VIDETUR
ТЕНЬЮ ГНОМОНА
ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ
ПОКА КАЖЕТСЯ НЕПОДВИЖНОЙ
Я стоял в некоем неопределенном месте, бесцветном, без плотности. Невыразимое чувство, из тех, что посещают в сумеречных состояниях, подсказывало, что некогда это место было моей комнатой; что одновременно и трансцендентное, и имманентное отсутствие, над коим, как на краю пропасти, открывалось мое желание, некогда было стеной, материальной реальностью, которую уничтожила небывалая белизна. Об этой отправной точке своего внутреннего, без шума или движения, приключения я вспоминал как о каком-то высшем мгновении, когда время начало удерживаться в себе и прекратило течь. Глаза мои оставались открыты — и совершенно напрасно, поскольку различие между внешним и внутренним потеряло всякое значение. Тело, наконец уловленное в своей центральной точке, сбросило балласт формы и массы и стремилось изгладиться в пробеле — как мало-помалу приглушаемый эрозией отпечаток льнет к своей исходной подложке. Но подложкой здесь была пустота. И плоть оказывалась не у дел.
Но тут навязал себя и ни с того ни с сего начал править образ. Я вновь обрел зрение, которого, как мне казалось, лишился, — все для того, чтобы рассмотреть очерченные в совершенстве, как предмету меня перед глазами и под рукой, столь же конкретные, сколь и необычные солнечные часы, украшенные у основания нравоучительной надписью. И, оставленный словами, сказал себе, будто действительно учился говорить: пора.
И засим смежил веки. Я проник в застенок — но не отринув волевым актом назойливую очевидность предначертанного часа и тем паче не в силу утомления перед лицом мира и вещей, а в своего рода созревании души, согласной на свою темноту, на отступление в себя, на окончательный отказ от любого объекта и всякого света. Образ солнечных часов таким образом стерся. Поскольку вдали от всякой чувственной реальности во мне все еще мешкали латинские слова, все что мне оставалось, — воспоминание об окончательном суждении о природе времени, окутанное смутным ощущением, что суждение это не ново или по меньшей мере не принесло мне никакого нового знания и у меня, следовательно, есть все основания остаться с закрытыми глазами, ибо я победил неведение.
Читать дальше