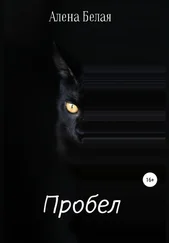Между тем в этих недвижных брачеваниях с тенью, модель для коих много раз приносил мне сон, тело оказывалось препятствием, оставаясь тем не менее в лучшие свои моменты очагом их пылкости. Смерть, скажем, призывала плоть, и плоть желала сего опьянения. Но ее отталкивало движение к смерти — движение, которое неминуемо вмешивается в данном случае, как и всякий раз, когда речь заходит о том, чтобы принять решение и меры по его реализации. Умирание представало тогда работой тела над собой, с непременной игрой действий и поз, выражений и ритуалов. Оно, вплоть до последней судороги, оказывалось разгулом жизни. Ну а плоть — такою, по крайней мере, ее раскрывал сон — стремилась совсем к иному, нежели барочная неразбериха, желала покоя, ухода от самое себя и отсутствия, отказывалась от борьбы — от той агонии, которая мобилизует и активизирует все защитные силы организма. Единственное, что ее очаровывало, — вышедший из самого темного ее желания образ смертельного погружения, что разворачивался без малейшего сопротивления, пока сама она, плоть, отдавалась, поддавалась, сочеталась в своей наконец-то признанной, принятой, привеченной пустоте — без блеска и шума, без движения и усилия, в точности так, словно бесконечные воды, ключевая стихия, из коей она была сотворена в своем преходящем цветении, кротко поднялись над ординаром, дабы утолить, затопляя ее и растворяя, жажду небытия собственного порождения: плоти, стекающей в отсутствие как в самое себя, погружаясь без движения, пропадая без удаления. Ибо в своей ущербной нежности плоть хотела, извечно жаждала и ждала развязки натяжений, стирания знаков, эрозии без противления, податливости и увязания сокровенных тканей в иле доисторического оцепенения и, как последнего конца, любовного причащения к собственному отсутствию: чаяла исчезнуть в невесомом и неподвижном падении в себя — скорее состоянии, нежели испытании или изменении, сулящем вновь водвориться в изначальной пустоте как в бесконечной колыбели бессознательного и безосновного. Собраться, стало быть, впустую в самой себе — вот на что было направлено для плоти удерживавшее ее до сих пор ожидание. К этому в своей полноте и сводилась жизнь. Не так уж и мало.
Такой, полагаю, была первая мысль, всплывшая, когда до меня дошло, насколько стеснительно и непотребно мое существование в лоне всеобщей белизны, когда я мучительно ощутил, что материальность тела служит препятствием такому мирному, такому умиротворяющему распространению пробела. Обнаружил, что обособлен, разнороден, исторгнут из отсутствующего сердца сведенного на нет мира, за которым я, конечно же, наблюдал, но в доле в котором мне было отказано. И в терявшейся в своих бесформенных, бесцветных и бессодержательных далях пустыне бытия я оскорблял небытие своим бесконечно жалким присутствием.
Но точно также, как мало-помалу удалось приноровиться и не бояться — ибо за страхом приходит движение, — я со смиренным терпением постарался воздержаться от отчаяния и возмущения и, наперекор всем треволнениям, ждал ради ожидания, без иного желания, кроме как продлить ожидание, без иной любви, кроме всеприятия. И, наподобие земли, которая никогда не кричит, на которой сменяются времена года и дни, я был еще и всем этим — только время года оставалось всегда одним, а день все тем же.
Думал я очень мало. Возможно, слова канули в пробел, как случается в приступе бессонницы, когда тебя вдруг касается заря, а тебя ничего не касается. Я лишь время от времени говорил себе: я жду. Но это была скорее не осознанная фраза, а телесное предчувствие как бы на полях глагола. Я ждал просто потому, что был там, потому, что держался стоя — без напряжения, свесив руки, раскрыв ладони, слегка расставив ноги, как внезапно выхваченный на ходу и остановленный до скончания времен пешеход. Я ждал потому, что все иные смыслы жизни окончательно обесценились: все компромиссы желания и реальности, вся категоричная система несомненных фактов, вся динамика планов и стремлений — иначе говоря, все никчемные привески, которые кроются за цеплянием за жизнь, перестали функционировать. Итак, оставалось только ожидание, а оно, в свою очередь, и не прерывалось, хотя до поры низкая политика сердца и рассудка постоянно держала его на задворках мотиваций личной истории (уж больно мы одержимы целями и трофеями). Я, стало быть, ждал. И только. И ожидание мое пребывало в каком-то горячечном месте так далеко от вещей, что даже не дрогнуло, не отвлеклось, когда подточенная собственной пустотой начала распадаться моя одежда. Оно не ослабло. Оно не усилилось еще более. (Воля с самого начала не имела к этому приключению доступа.) Оно оставалось равным себе в ровной праздности пробела.
Читать дальше