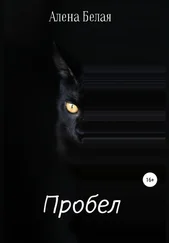С последней отринутой тканью моя нагота обрела длительность мгновения, чью полноту не могло очернить никакое внешнее искушение. Обрывки мысли вспыхивали вдруг в общем оцепенении моего духа лишь для того, чтобы поведать, что я никогда не буду достаточно наг для такого ожидания, никогда достаточно обнажен. И посему я продолжал ждать — словно, донельзя бескорыстно покорившись времени, завершал в душе ту процедуру отрицания, которую своими пределами ограничивало мое тело и из которой я долгое время полагал себя исключенным.
Подчас я говорил себе в молчании — как бубнишь ночью в уме, — что, если болезнь белизны затронет мое тело, начало этому должно быть положено в органе вожделения. Естественно, я думал об уде. Но, по правде говоря, думал мало, урывками. Лишь изредка наудачу проверял, не появилась ли на сей части тела начальная вакуоль. Куда чаще я ни за чем не следил, ни за чем не присматривал. Просто пребывал в ожидании, грезя, что мое тело полностью открылось окружающей белизне и насквозь пропиталось ею, вылеплено из нее как из неуловимого всерастворяющего молока — как будто, по образу и в противоположность первой, фонтанирующей матери, отсутствие было той последней, распределяющей пустоту, смерть и небытие матерью, что царит всецело и единственно своей чистой опалесценцией.
Что же до уда, почему именно его следовало считать главным органом вожделения? Не приводило ли оное в действие и в движение через взаимосвязь чувств всю целокупность плоти? Член возникал, несомненно, на перекрестье всех чувствительных и чувственных сетей, что зиждут плоть на мощи желания. Но очагом интерференции на равных служила каждая точка тела, и на то, чтобы по очереди их доискаться, исследовать и исчерпать даруемое ими наслаждение, могла бы уйти не одна жизнь. Но я, впрочем, готов был принять это приключение плоти и ее удовольствия как бесконечно длимую страсть, беспрестанно обогащаемую собственным упрямством, и как своего рода святость (или, по крайней мере, совершенство), вполне достойную человека, — и, в равной степени, отлично знал, что если желание обладает мощью, то она отнюдь не сводится к симфоническому всплеску чувств...
Точно также — пусть даже сии философические реминисценции из числа самых тщетных, а моя вера, пока я стою здесь, не имеет с ними ничего общего — меня ничуть не заботило, как именно окажется задето мое тело. Знать это было бы разве что забавно. Важно было лишь удержать так долго, как понадобится, внутреннюю готовность принять и приветить окончательное событие, какую бы форму оно ни приняло.
Изредка, когда меня словно пронзали проблески разумности, вдруг высвечивая устои моего собственного мрака, я говорил себе, что, идя на поводу у привычек и истории, слишком уж связывал прежде смерть и виновность, истолковывал все, что со мной происходило — и прежде всего боль, неудачу, упадок, — на фоне вины. Я присутствовал при появлении пробела и постепенном уничтожении моего универсума как на инсценировке своего наказания. И поначалу ощущал неотвратимую неизбежность заражения пустотой как угрозу, направленную непосредственно на меня и возвещающую, что я осужден. Мне показалось нормальным (в недрах подобной ненормальности) и необходимым (хотя вся эта история с пятном и стеной подчас производила впечатление в равной степени нечаянного и игрового опыта), что из-за изъяна, коим являлось мое существование, я, в свою очередь, как и все вещи, к которым привязался, был затронут столь же беглым, сколь и неумолимым симптомом небыти — если на мгновение принять сей термин в попытке высказать не способное быть сказанным: приобщение к инстанции абсолютного отрицания. Если мне случалось бросить задним числом взгляд на собственную — во всем лишенную интереса — историю, то лишь для того, чтобы признать: я связан с кругом негодности, зла и греха. Зародившись и вызрев в сей сфере, мое личное приключение так ее и не покидало.
Но — возможно, лишь потому, что продолжал держаться на ногах, возможно, потому, что постоянство в приятии немыслимого и невыносимого превозмогло догму моей христианской чувствительности — теперь я видел, что в наготе человеческого тела, устремленного к фундаментальной наготе уже прекратившегося мира, припадаю к белой ране смерти как к радостному завершению всего своего бытия — самая громкая радость оказывается и самой безмолвной. Я пытался сосредоточиться на мгновении, как мог бы сделать (чего уже почти не помнил) некогда, будучи первопричастником. И на пороге моего желания, как своего рода безмерно беспричинное воздаяние, открывалось вовсе не казавшееся мне теперь наказанием смертельное зияние, коего я чаял: во мне, в том, что скоро станет моей последней утробой, поднималось ликование, что я есмь лишь для того, чтоб более не быть.
Читать дальше