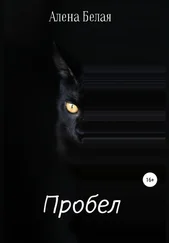Оставшись во всей наготе, вот так, стоя, без кого-либо перед собой, без образа, без предмета, не обнаружил я в себе и плотских желаний. Отголоски воспоминаний и ностальгий выхолостились до полного безразличия. Уд, порождение и выражение вожделения, признавал своим покоем тщету всякой потенции. Земля пребывала в неподвижности. Искупать было больше нечего. Каждое желание знавало лучшие времена; времена эти минули. В настоящем же — как постоянно подпитываемое в самом себе и нескончаемо длимое настоящее — оставалось только ожидание, в коем я пребывал: ожидание не столько вещей, сколько небытия, не столько Бога, сколько отсутствия. Принять растягивалось до бесконечности.
Итак, когда у меня на теле появилась точка пустой белизны, я обратил внимание не на ее странность, а, скорее, на ее сокровенную близость моей плоти и, в общем и целом, на непрерывность моего к ней чувства — словно явленная ныне физическая пустота целиком и полностью проистекала из приостановки желаний и из состояния безграничной готовности, к коему внутри меня открывалось сердце, так что по необходимости то, что расширялось, открываясь в глубину, открывая глубину в самом себе и обнаруживая ее в своем отсутствии, было центром, пересечением всех мест тела, иными словами, сплетением. И тогда, в блаженном безразличии, с которым я мог, не отрываясь от созерцания бесконечности пробела, рассматривать это тело, мое отверстое к собственной пустоте тело, я осознал, что так долго тревожившая меня мысль о заражении пустотой доказывала мое полное безрассудство. Ибо пустота, которую я с таким упорством созерцал, не просто не была мне ни внешней, ни чуждой: она являлась всего лишь объективно воспринимаемым знаком моей собственной пустоты — как бы ее ипостасью. Вот почему я вправе сказать, что сие неподвижное ожидание было долгим путешествием назад, к моему истоку. Я рискнул отправиться снаружи внутрь или, скорее, прежде всего заметил вне себя, в его отчетливой белизне, отражение своей внутренности. В масштабах моего жительства при этом сошел на нет целый мир. И впредь, до тех пор пока мое сознание продержится настороже, мне останется постепенно, любовно сочетаться с всеобъемлющим вакуумом, чьей проходной и беспричинной цвелью было до поры до времени мое существование.
Этим полым сплетением — и я ощущал, как оно во мне углубляется, — было мое собственное отсутствие: я носил и вынашивал его в себе, как ребенка. Потому что я его обнаружил, потому что встретил, мне казалось, что оно — чистое порождение моей любви. Но в действительности вынашивало меня оно — как мать, от которой, мне думалось, я ушел и которую, оставленную, стало быть, забыл, но теперь она смертельно звала меня к себе. И в конце своего пути я возвращался к ней, туда, где, сам того не зная, никогда не переставал оставаться, в глубины чего имел доступ, не нуждаясь для этого в действии, — таким непосредственным в своем всемогущем поглощении было великое Отсутствие, мать моей плоти и души.
Я стоял, неподвижный и действительно опорожненный, укоренившись как растение в той внутренней пустоте, что несла в своей бесконечности отрицание любого корня. Я прямился без веса, без сцепления, зная, что рано или поздно упаду прямо на месте, здесь, как раз здесь. Мне только хотелось уже целиком войти к тому времени в свою собственную белизну — поглощенным и растворенным, истертым из самого себя, как будто ничего и не было. В ожидании мое сознание слилось воедино с заполонявшей меня полостью, которая расширялась, мало-помалу опустошая меня от субстанции и реальности. Жизненные процессы расплылись. Истончились утробные шумы. Вдох и выдох так далеко разнесли друг от друга свои ритмические акценты, что дыхание оказалось уже просто аккомпанементом безмолвия. Бесконечно разреженное существование брало за живое; в нем, не переставая казаться неподвижной, как подчас недвижна водная гладь в сновидениях, подрагивала белизна. Несомненно, мои органы отхлынули к своему центру и отбросили там всякую наполненность; также и члены со своей никчемной толщей; в один прекрасный день я стану всего-то колеблющимся мешком кожи, вместилищем пустоты, чуждой празднику гирляндой — или, может статься, в день последний, видимостью дымки, не такой белой, как пробел, более весомой, нежели ничто, пока она целиком не рассеется в отсутствии имени.
И пока я ощущал, как во мне избавляется от плотности плоть моей плоти и, отрекшись в некотором роде от своей сущности, поистине отступают в собственное отсутствие внутренности, в свою очередь начади проваливаться в пустоту и слова. Очень странный момент. Все, несомненно, разворачивалось во мне, но при этом я словно находился вне своей мысли и присутствовал при безвозвратном падении слов, при их бесполезном прогоне и утрате в забвении. Как ни странно, в моей тишине издалека доносилось как бы эхо какой-то болтовни, но ее никак не удавалось уловить. Разрозненные строки стихов и молитв, образчики красноречия, обрывки песен, клочки грамматических правил, определений, цитат, теорем... проступали, надували свои пузыри и, как комедианты, провалившиеся в люк, внезапно выпадали в отсутствие памяти. Я уже никогда не смогу их повторить.
Читать дальше