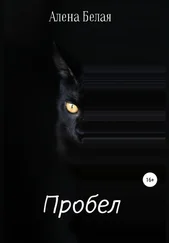Потом я обернулся. Мой взгляд с, не иначе, слишком поспешной медлительностью обежал череду предметов, теней, углов, рельефов, отблесков, наполнявших мое пребывание здесь, придававших ему характерный облик — облик моей комнаты, про которую я говорил, что в ней я у себя , что мне приятно тут обитать. Напрасный труд. Бесполезные слова, утратившие, как и множество других, свой смысл.
Прямо передо мной, внезапно и впредь, маячила уже не стена с белым пятном, а, сквозь как бы надпечатанную белизну или, скорее, бесцветность, подлинный негатив стены. Воспользовавшись моим полным оцепенением, рука, следуя за взглядом, решилась тронуть и схватить, но схватиться ей было не за что. Она до отказа погрузилась в бесплотность вещи, трепыхаясь в воздухе там, где уже, казалось, никакого воздуха не было — разве что тусклая насыщенность опустошившейся реальности (вроде внутренности перчатки, когда из нее вынута рука, или признания того, что место пусто, передаваемого формулой flatus vocis [4] Колебание голоса (лат.) Формула схоластических споров Росцелина/Ансельма Кентерберийского, отсылающая к мнению о том, что понятие не существует, кроме как в звуке.
).
Продолжали существовать материальные элементы: я мог их видеть, касаться, опираться на них. В основании, наверху и по бокам стены по-прежнему находились обои, о которых я уже упоминал. Я ощущал материальную толщу конструкции, которую называют перегородкой или, на наречии моего города, простенком. Но от нее уцелели лишь остатки, как этакий скалистый берег или хаос. В остальном же то, что было стеной, стало всего лишь пробелом, недоступным для соприкосновения, без толщины, без субстанции — и однако данным как прекрасно доступный зрению в своей непрозрачности материальный факт.
Перегородка была толщиной сантиметров в десять. Как я уже говорил, она отделяла комнату, где я чаще всего находился, от своего рода чулана для кулинарных и санитарных надобностей, в который вела дверь.
Моей первой реакцией было поспешить туда, дабы посмотреть, как обстоят дела с сей фантастической белизной с другой стороны. Загромождавшие чулан обыденные предметы оставались тем, чем они и были, но процесс обесцвечивания и развоплощения стены проявлялся и с этой стороны. Я еще раз попытался опереться рукой на белую поверхность. Рука погрузилась, как и раньше, ничто ее не остановило и даже не встретило, не попалось на пути. И тут меня посетило ужасное чувство, что вслед за рукой целиком, физически мог бы погрузиться в отсутствие и я, отправиться таким образом в своего рода бесконечное, возможно неподвижное путешествие. Но на подобное приключение мне не хватало смелости, мне даже не хватило сил сосредоточить на этом свой ум. Я словно окаменел перед лицом непостижимого. И мне наверняка понадобилось много, очень много времени, прежде чем я смог сделать шаг к двери, что вела из одного помещения в другое. Я был совершенно не в состоянии здраво рассуждать и искать объяснение. Внезапно обнаружилось, что мир отпустил меня и я балансирую на его краю, словно над бездной, которая очаровывает, засасывает, наводняет неотступным ужасом. Эта опустошенная от своей материи стена, сведенная к призрачной белизне прежде всех форм, головокружительно открывалась в сокровенные глубины моего тела. Я был ею болен. Я находился перед ней как перед окном, чей подоконник словно исчез, в опасении неминуемого падения и с чувством тщетности любых попыток отложить срок расплаты. И все же не падал. Все еще держался, совсем рядом, на нетвердых ногах, с пересохшим горлом, неспокойным желудком, обливаясь ледяным потом. Возможно, в этом телесном погроме искал выхода какой-то крик. Но он не приходил. И не пришел. Он пребывал и все еще пребывает во мне чистой возможностью, дарованной фразе, которая его объемлет, удерживает, доводит до предела, так и не позволяя прорваться. И такова же, если она есть, душа.
Я был там, я стоял — вот все, что я мог сделать. Я уже ничего не понимал. Интеллектуальное любопытство, составлявшее едва ли не единственную мою гордость, потерпело крах: я отказался от анализа, от гипотез, от метода. Во мне сохранились только изумление и тревога — или, скорее, именно они хранили меня на самом деле, пока я наконец-то приближался к самому себе, вновь обретал свою фундаментальную глупость и, соединяясь, составлял с ней в своем всеодиночестве единое целое, не искал большего.
Передо мной, в потрясающей близости, едва уловимо, но неумолимо разворачивался чистый феномен пробела. Сам того не желая, я перестал его отвергать, а претерпевал теперь в невзгодах тела и в бессилии духа, сообразно ничтожным ресурсам мучительной и упрямой пассивности. Но, по правде говоря, я уже попался. Не сбежав сразу же из сей невозможной комнаты — бросив все позади, топоча башмаками, мчась неведомо куда через город, — отныне я, безусловно пленник, был обречен жить здесь свидетелем немыслимого, день за днем присутствуя при распаде и уничтожении своего материального универсума. Очевидец небытия! По крайней мере, казалось, что я смогу еще таковым быть — до тех пор, пока способен рассматривать нашествие белизны лишь как нечто внешнее.
Читать дальше