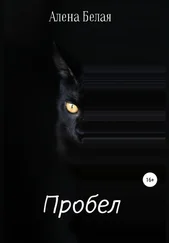Писал, будто убегал, не будучи силен в беге, но с обуревавшей изо дня в день готовностью спешить. Погружался, очертя, если можно так выразиться, голову, в разветвления суровой истории, где сталкивались неистовые личности и за человеческими страстями друг другу противостояли политические и духовные разногласия. Эпическая и сдержанно напряженная, история эта имела со мной мало общего. Тем лучше. Не имея в биографии абсолютно ничего значимого, я находил огромное удовольствие, восстанавливая эти, несоразмерные моей, жизни, вторгаясь в тайну исторических судеб и недюжинных личностей, все же убежденный, что моей субъективности — как и тогда, когда я вставлял в чуждую моей мысли фразу слово (запретное), которое принадлежало только моему желанию, — здесь представится возможность проявить себя, не столько для того, чтобы блеснуть, но прежде всего (о! прежде всего...), чтобы подсказать какому-то неизвестному читателю: имела место и моя субъективность, она улучила момент, и по поводу меньших братьев ей есть что сказать своего, только ее касающегося, связанного, несомненно, со смирением, бедностью, целомудрием, но сообразно стадиям настолько пресного, настолько неподвижного и как бы нулевого внутреннего приключения, что притязания на аудиторию ни в чем не изменят ее глубинному призванию к тишине, темноте и обезличенности. Просто повествование о беспокойной жизни Убертино да Казале давало мне повод — помогая вместе с тем забыть (в той мере, в какой я отождествлял себя с его отчаянной попыткой обогнать историческую судьбу) о нависшей надо мной чудовищной угрозе белизны, — отводило место для письма, чтобы закрепить тут и там, в считаных фразах, скудость моего бытия.
Ибо книга, за которую я взялся, наверняка стала бы первой и последней. Она, таким образом, предоставляла единственную открытую передо мной возможность уловить свое существование словами — притом богатого красками исторического повествования... Странное чувство: знать, что всякая фраза, продвигаясь к концу книги, продвигается в то же время и к концу твоей судьбы. Странность к тому же удвоенная тем, что в книге, как и в моей жизни, продвижение это мне едва ли не чуждо, что эта ткань событий и интриг, эти конфликты власти и столкновения персонажей, вся игра мотивировок и сверхмотивировок, из которых, как и моя жизнь, оказывается соткана история, всё разворачивается так, будто я как бы ничто. И подобная перспектива отвечает во мне любому желанию, любому ожиданию.
И тут я оказываюсь перед пустотой белой страницы, ищу глазами или рукой карандаш, чтобы попытаться переоформить очертания рисунка, что вышел из глубин моей юности, был давно потерян из виду и теперь оказался востребованным: тень в погоне за собственной тенью — темное раздвоение, заверенное изречением:
ОПАСНОСТЬ ПОДСТЕРЕГАЕТ НАС ПОЗАДИ
— и так как я не прочь, по крайней мере, попытаться воспроизвести сей рисунок, схема которого стала мне вновь привычной, я внезапно открываю, что бумага действительно пуста; что смысл невозможно уловить и действие это невыполнимо. И понимаю, что пробел превзошел меня в скорости и передо мной, как и позади, все готово, все дано, и растворившемуся в собственной опустелости миру больше нет места, так что в бесконечной отныне неопределенности своего предприятия я стремлюсь стать наконец тем, во что обращает меня пустота.
Меня еще не охватил страх, я так и не поворачивал еще голову в сторону стены, из самого сердца во мне взметается воодушевление, какого я не знал ранее. Жизнь — моя жизнь — при всей своей ничтожности вдруг кажется мне жутко интересной, заслуживает проживания. Книга об Убертино да Казале не будет завершена, рисунок с тенями так и останется неповторенным, у меня ощущение, что я должен завершить произведение, которое требует от меня совсем другого, нежели письмо, — словно мне, во плоти и духе, выпало послужить текстом некоей мысли, может статься божественной, вписанной в первичный источник тревоги (и желания) и так глубоко запрятанной в отсутствии памяти, что ее никогда не вбирала ни одна речь — ни одна написанная на белой странице фраза.
На столе, под рукой, лежит девственно чистый лист бумаги, самый обычный, лишенный тех черт, что отделяют предмет от рутинной заурядности, делают его молчаливым, недоступным, угрожающим. Здесь белая страница не столько вещь (тревожащая), сколько знак. Я не исторгнут (из письма), а скорее намечен (пробелом, пустотой) и послан в реальность, которую пока не воспринимаю, хотя с самого начала испытываю ее абсолютное наличие, — так что сей приготовленный для текста лист ускользает от своего предназначения и становится отражением, по моей мерке, того, что в данный момент держится позади меня и как раз таки представляет опасность. Вот так, не меняя своих чувственных черт, вещь преподносит новый, совершенно иной смысл, и действием его не изменишь. И никакому тщанию воли уже не отклонить обычную прежде вещь, чей смысл мутировал, к ее первооснове. Белизна бумаги, ничуть не раня глаз, вытравливает из меня дух простого поденщика, ремесленника пера, присущий (по мере возможностей) мне до сих пор, — и в то же время служит образом некоего высшего отречения, перед лицом которого я, чьи потребности ограничены, а желания скромны, вижу, что переполнен излишествами и распираем собственной несостоятельностью.
Читать дальше