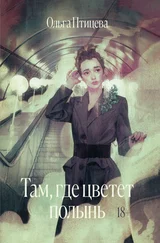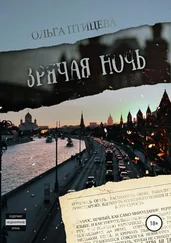А если — да? Если не было никакого отца? Только полоумная актриска, поехавшая рассудком от жизни такой и решившая народить себе детеныша, чтобы осветить бытие смыслом. Это потом она начала изредка подкармливать маленького ублюдка то одной байкой про папочку, то другой. Просто чтобы заполнить паузы. Вдруг все так и было? Но Павлинская возмущенно шипит, вздымается над креслом и опадает в него с лебединой трагичностью.
— Думаешь, мать твоя всегда была никчемной развалюхой? — цедит она. — Думаешь, никому она не сдалась? Думаешь, ее и трахнуть было некому?
Вот об этом я вообще стараюсь не думать. Потому молчу, жду, пока праведный гнев схлынет. Успокоительное уже разлилось в ней благостной волной, так что Павлинская быстро оседает обратно и только шмыгает идеально сконструированным носом.
— Разумеется, был мужчина, который зачал тебя во мне, — наконец говорит она, понижая голос до пафосного шепота. — Но был он подонком. Иродом. И поступил со мной так, что я поклялась никогда не произносить его имени. И не произнесу.
Она поджимает губы, и я вижу, сколько морщин стягивают ее острую, высохшую мордочку. Спорить бесполезно. Я знаю этот загнанный взгляд, эти втянутые щеки и складку между бровями. У меня самого такая есть. Зря только потратил половину дня. Зря только расковырял поджившее. Зря только напоил и без того спятившую мать лекарством, которого ей никто не прописывал. Все зря. Где-то дома, куда мне придется вернуться на щите, Катюша выключает компьютер, чтобы никогда больше за него не сесть.
— Хорошо. Значит, меня уволят, — говорю я. Еще раз припечатываю ладонь к столу и встаю. — И это придется продать. И вот это, — киваю я на дубовую тумбочку с витыми ножками. — И люстру. И кота твоего дебильного на фоне идиотского Кремля, это же не репродукция, это же Никас, мать его, Сафронов!..
Кажется, я кричу. Павлинская прикрывает рот ладонью и смотрит на меня так испуганно, что я затыкаюсь. Стою над ней, тяжело дыша. У меня дрожит левое колено и чешется за ухом. Но двигаться нельзя. Моя сцена сыграна, теперь очередь Павлинской.
Она поднимается. Мучительно долго. Дрожь от колена расползается вверх и вниз — сводит икру, заламывает бедренный сустав. Павлинская обходит меня так осторожно, будто я пообещал вырвать ей почку, если она приблизится. Ухо уже не чешется, а горит. Павлинская скрывается за моей спиной. Я слышу, как скрипит секретер, купленный у антиквара задешево, так что в подлинность его я не поверил, но Павлинская подвоха не заметила. Я почти не чувствую левую половину тела, и пока матушка возится в нескончаемом личном архиве, размышляю, насколько вероятно, что у меня инсульт. Выходило, что шанс велик.
— Вот, — наконец, говорит Павлинская, и я отмираю.
Пожелтевшей бумажной стороной кверху она протягивает мне фотокарточку.
— Его сейчас и зовут, наверное, по-другому, — бормочет она тихо-тихо. Мне приходится нагнуться, чтобы разобрать слова. — После… после того… Он же трус. Он все бросил. Сбежал. Подлец. Имя… Имя ведь можно поменять? Миш, можно имя?..
— Мишенька, послушай меня, сыночек, послушай внимательно, что я скажу, — бормочет и бормочет она, пока я натягиваю пальто и завязываю шнурки на ботинках. — На метро не езди, масочку купи, обязательно купи масочку, перчатки не снимай, чтобы не дай Бог, мало ли кто до тебя, там все грязное, Миша, там такая грязь, такая инфекция…
Я молчу. Во мне напихано стекловаты — колко, тесно, невозможно, но я терплю.
— Если голова заболит, если сыпь, температура поднимется, Миша, сразу бери машину и приезжай домой.
— И чем же ты мне поможешь? — спрашиваю я и тут же понимаю, что зря.
Павлинская уменьшается в размерах, горбит спину, опускает плечи. Не женщина, а переломанная вешалка с накинутым кое-как халатом. В пальцах — тонких, с немыслимой выделки лунками коротко обгрызенных ногтей, — скомканный шарф. Пытаюсь забрать его — не отдает. Сжимает сильнее, тянет на себя.
— Я же не виновата, что забыла… — шепчет она. — Столько времени, столько всего… Прививала, не прививала — не помню. Не знаю, не знаю.
— Мам, — обрываю я, ежась до болезненных мурашек жалости и невыносимой тоски от ее повинной. — Я поеду к врачу, сдам анализы, если не привит, ничего страшного. Привьют. Угомонись.
Получается сухо, отчужденно даже. Словно бы я и правда оскорблен до самой глубины души тем, что матушка, погрязшая в антиквариате, одиночестве и безумии, забыла, прививался ли сынок ее от кори. Павлинская в ответ уменьшается еще чуток и становится неотличимой от темных завитушек на обоях.
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)