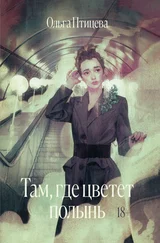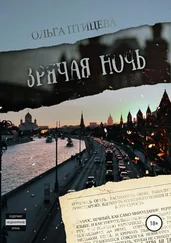— Эти деньги. — Откашливаюсь. — Я для того и привожу, чтобы ты их тратила.
Павлинская выдыхает мне в лицо облако дыма, я морщусь.
— Мне нужно, чтобы ты рассказала…
Она поднимает бровь. Старая мумия, полудохлая шизофреничка, а гонору столько, что хватит на пятерых.
— Тебе нужна моя биография, сынок? Тогда времени до вечера нам не хватит.
Халат распахивается, и я вижу на ее груди темные старческие пятна. В горле начинает свербеть, а она все курит, все выдыхает в потолок. Дым клубится, оседает на коже и волосах мельчайшими сгустками ее слюны, никотина и дегтя. Мне становится жаль свитер. Придется выкинуть. Прости, экологичный японский дружочек, но домой я тебя не потащу, ты провонял до последней бамбуковой ниточки.
— Мне нужно узнать о своем рождении.
Павлинская выпрямляется. Пепел падает с кончика тлеющей сигареты прямо на турецкий ковер. Он точно турецкий, мам, я проверял. Тебе же важно было сыпать пепел именно на турецкий.
— Мог бы заглянуть в паспорт, — фыркает она. Запахивает халат и подтягивает пояс. — Но если ты настаиваешь… — Растягивает губы в подобии улыбки и елейным голосом тянет: — Это был дождливый ноябрь тысяча девятьсот девяносто первого. Союз уже развалился. Всех мальчиков называли Борисами. Представляешь, если бы тебя звали Борис? Вот убожество.
Я не поддаюсь. Не отворачиваюсь. Не двигаюсь. Да что уж, я не дышу. Я требую продолжения.
— В роддом меня отвезли прямо со сцены. Миронов умер на сцене, а ты мог бы там родиться, но спектакль был ханжеский, такого постмодерна никто бы не оценил. Это я всегда была на два шага впереди этих холопов… Но, сам понимаешь, что я могла изменить в одиночку? Только родить тебя, вытолкнуть из себя в этот мир. Подарить миру сына. Да, это я смогла.
Замолкает в мхатовской паузе. Голова чуть откинута, глаза прикрыты, дыхание задержано на вдохе, чтобы ноздри остались втянутыми, скулы очертились резче. Не поддаюсь. Жду, пока ее живому еще тельцу понадобится кислород. Павлинская выдыхает, мизансцена рушится. И вот она уже сидит передо мной, вернувшаяся с подмостков несуществующего театра.
— А кто забирал тебя из роддома? — осторожно направляю я.
Матушка закусывает губу, склоняет голову к плечу, как подслеповатая галка.
— Милейший таксист вот с такими усами, — цедит она. Взмахивает рукавом, из него вылетает и падает на пол зажигалка.
Пока я наклоняюсь, чтобы ее поднять, Павлинская колупает ногтем лаковый скол на рукоятке кресла. Надо бы отдать мебельщику, а то ведь испортит вконец, не починить будет, жалко, очень жалко, такие деньжищи, еще бы не жалеть.
— Не смешно.
Матушка смотрит на меня глазами аквариумной рыбки и оглушительно хохочет. Это жутко. Настолько, что я готов отступить. Но в московской норе сидит Катюша, экран перед ней девственно чист, а курсор мигает все быстрее, все истеричнее. Отступать некуда. За мной Катюша.
— Мам, давай серьезно, — прошу я. — На работе требуют данные об отце. Прочерк их не устраивает.
Домашнюю заготовочку я репетировал все те два часа, что тащился по железнодорожным путям в сторону богом забытой пятиэтажки на углу Новой и Парковой. О месте моей работы Павлинской мало что известно. Правдой ничего из этого не является. Прочитай она хоть главу из Катюшиной писанины, то словила бы не придуманный, а реальный инфаркт. Туманных намеков о важности того, чем занят сыночек Мишенька, вполне хватает, чтобы Павлинская и дальше нежилась в уюте, не тревожась о насущном. Нужды она боялась. Помнила ее на вкус уцененных куриных тушек, синюшных и пупырчатых, которые мы брали на рынке за три остановки от дома, чтобы никто не узнал, Мишенька, чтобы не шептались, как низко мы пали.
— Если не заполню анкету, вылечу на первой же проверке, — нажимаю я.
Павлинская съеживается, хохлится даже. Я давлю в себе жалость. Не позволяю себе потянуться через стол и погладить ее по откинутой, словно забытой в стороне ладони.
— У тебя нет отца, — медленно и глухо отвечает Павлинская. — Только я. И все.
И в этом столько правды, что я стискиваю зубы, чтобы не издать какой-нибудь мерзкий и унизительный звук. Где-то, за два часа езды на электричке отсюда, Катюша шумно фыркает и ведет здоровым плечом — концентрированная ироничность, само презрение. Да, милая матушка, тут ты промахнулась. Кроме тебя — отца, и сына, и святого духа моей бренной жизни, — есть еще кое-кто. Но и об этом тебе знать не обязательно.
— Но биологический отец у меня был, так? — не отступаю я. — Ты же не в банке сперму одолжила…
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)