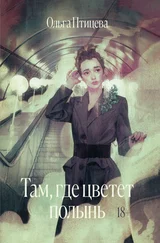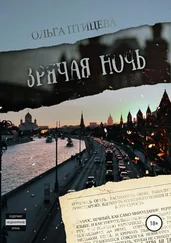— Глупости, никакой кори нет, — лепечу я, кривясь от своей беспомощности.
— И менингит! — Голос матушки становится выше и пронзительнее.
Это молнии, пока далекие, но явственные, засверкали на горизонте.
— Ни разу не слышал, — еще отнекиваюсь я.
— По Первому каналу говорят! — грохочет Павлинская и тушит сигарету в той же несчастной чашке. — По «второму» говорят! — Чашка опрокидывается, остатки чая, смешанные с пеплом, выплескиваются на ажурную скатерть. — А он не слышал! Ты чем слушаешь, Миша? Чем?
Это бешеный порыв ветра швыряет мне в лицо напряженный запах грозы и отзвуки грома.
— Я не смотрю, телевизор, мам, — упрямо бормочу я, но смотрю в сторону. Раздражение мешается во мне с неизбывным ужасом ребенка, брошенного в центрифугу материнского гнева. — Его вообще уже никто не смотрит.
— Ну, конечно, он у нас человек будущего, — цедит Павлинская, не замечая безобразной лужи на любимом столе, купленном мною у сумасшедшего антиквара за сумасшедшие же деньги. — А мать у него ту-па-я, древняя мать у него, никчемная, на такую мать что? Плюнуть только. Растереть. Чего смотришь? Плюй! Плюй сейчас же! И ведь плюнешь, так? Так, я тебя спрашиваю?
Замолчи. Замолчи. Пожалуйста, мама, хватит! Перестань говорить, перестань кричать, перестань высасывать из пальца. Ненавижу. Как же я ненавижу это все. Эту комнату, этот хлам — не пройти, не проехать. Сколько деньжищ ухлопал на твои прихоти, на вазочки эти, чашечки, на ковер ручной работы, чтобы турецкий, Миша, чтобы не подделка, ты проверь. Сколько истерик твоих вытерпел, сколько слез вытер, сколько рвоты, соплей и крови. Я знаю, ты не специально. Я знаю, это болезнь. Истощение психики, истерия, театральность твоя проклятая, от которой душно становится. Я жалею тебя. Я тебя боюсь. Я тебя ненавижу, мам, как я тебя ненавижу. И себя. Но тебя сильней.
— Нет, не так, — чеканю я и встаю с низенького креслица, обитого гобеленом. — Мам, нам поговорить надо. Я потому и приехал.
Павлинская остается сидеть. В прозрачных от непролитых слез глазах — ни единой мысли. В дрожащих руках мелко позвякивает чашка, которую она схватила и теперь вертит в худых пальцах, и непонятно, что сломается первым — фарфор или кости, слишком уж одинаковые они, полупрозрачные на просвет.
— Миша… — шепчет она омертвевшими губами. — Я тебя от кори не прививала, Ми-ша-а-а…
Павлинская успокаивается после двух стаканов воды. Первый она пьет, захлебываясь, через сцепленные зубы, вода льется на меня, мочит рукава свитера. Я пою Павлинскую с рук, сидя перед ней на коленях. Турецкий ковер колется через джинсы и пахнет, как большая пыльная игрушка, забытая на антресолях. Стараюсь дышать через рот, чтобы не расчихаться. В горле першит. То ли закашляться, то ли разрыдаться. А может, захохотать. Молчу. Гляжу, как морщится от каждого глотка матушка. Под плотным слоем пудры прячется старость.
Павлинская сдает. Я вижу это по трясущимся рукам, по беспомощности, с которой она хватается за спинку кресла, когда я встаю, чтобы налить ей еще воды. Замечаю по той секунде, что теперь нужна ей, чтобы выхватить меня из мешанины цветных пятен, ползущих перед ее слепнущими глазами.
Кухня почти не изменилась. Сюда не пробралась мелочевка, заполонившая две другие комнаты. Ни тебе хрустальных вазочек, ни сахарниц, расписанных гжелью, ни связанных тончайшим крючком салфеток. Только стол с двумя табуретками — если хахаль Павлинской решал остаться на завтрак, то сосиску с хлебом я жевал, сидя на диване и поглядывая через коридорчик, как матушка варит гостевой кофе в гостевой же турке. Только скрипучие полочки в пенале — опять мышь повесилась, вздыхала Павлинская, разглядывая пустоту в них с исследовательским интересом. И пластмассовая сушка, и плита в четыре конфорки, две из которых давно опочили, а оставшиеся грелись долго и нудно, благо, готовить матушка так и не научилась, поэтому особой нужды в них и не было. Даже холодильник, и тот помнил, как неспешно и чинно издыхали в нем позабытые мной макароны с тушенкой.
Стискиваю зубы, не смотрю по сторонам. Говорят, память имеет свойство сглаживать углы. Вот бил тебя первый муж по почкам за пересоленный суп. Но через десять лет ты вспоминаешь не это, а как на первом свидании он принес букет из чайных роз, все кустики белые и один розовый, красота. Вот и теперь мне в голову лезет сентиментальная чушь.
В раковине лежит круглая подставка под яйцо. По субботам Павлинская просыпалась к обеду, но обязательно варила яйца в мешочек, чтобы мы начинали день как люди, сынок, чтобы ты привык ощущать себя человеком. Запоминай, Мишенька, пока мать твоя жива. Яйцо нужно класть в холодную воду, а газ пускать маленький, чтобы не пекло. Пусть себе греется тихонько, главное, не пропустить. Только пузырики пошли, сразу начинай считать, Миша. Тут же начинай. Медленно и вдумчиво, сынок. До десяти. Досчитал? Выключай газ. И пусть яйцо в кипятке полежит четыре минуты. Запомнил? Ровно четыре минуты.
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)