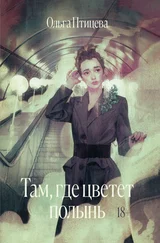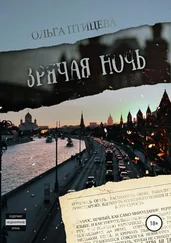— К сожалению, нет. Я вообще редко чего-то на самом деле хочу, но эти два дня мне необходимы. Я бы не стал просить, но других вариантов нет. Два дня. И все.
Телефон стал пудовым — так и норовил выскочить из обмякшей руки.
— Берите, — легко разрешил Тим. — Хоть два, хоть двадцать. — И добавил в голос всю язвительность, что нашлась: — Вы же Михаэль Шифман, я вам не указ.
— У вас крайне искаженное представление о моей персоне, Тимур, — холодно проговорил Шифман из сна. — Но спасибо, что идете мне навстречу. Я позвоню.
Он отключился. Телефон упал на подушку и скатился на пол. Тим спал и отстраненно думал — будь все это на самом деле, Ельцова с ума бы сошла от зависти. Еще бы. В пять утра говорить с Михаэлем Шифманом и, кажется, щелкнуть его по эффектно сгорбленному, точно переломанному когда-то, а после сросшемуся самым эстетичным образом носу. Щелкнуть и уснуть. Без снов. Без заторможенной дремы. И проспать до самого будильника.
Глава пятая. Об Иисусе нашем Христе
Я
Я стучу в дверь и знаю, что придется подождать. Матушка давно уже никуда не спешит. Все, к чему она привыкла бежать, теряя на ходу туфли, забывая оставить на плите ужин, а на тумбочке в прихожей — мелочь мне на обед, закончилось, завершилось, закрылось. И еще много печальных глаголов с приставкой «за». Пока я их придумываю, из-за двери — дерево, скрывающее под собой железную твердость и хитровыдуманность немецкого замка, — доносятся недовольное покашливание и неспешные шаги.
— Я вас слушаю, — раздается наконец.
Голос приглушен, но я его узнаю. Я бы различил его и среди тысячи таких же — старческих, прокуренных, сорванных репетициями и скандалами.
— Это я. — Язык нелепо обмякает во рту, вмиг наполнившемся вязкой слюной. — Открывай.
— Кто «я»? Говорите точнее, — не поддается Павлинская. — У меня, знаете ли, не рентгеновское зрение, чтобы видеть через дверь!
В двери нашей квартиры не было глазка, и матушка запретила его сверлить. Я не простой человек, Миша, меня еще помнят, мне завидуют. Воры, сынок, воры, жлобы, преследователи. Не дадим им лишнего отверстия, в которое можно залить кислоту.
— Миша, — представляюсь я. Чувствую себя при этом то ли сотрудником ЖЭКа, то ли воспитанным мальчиком, жаждущим поговорить об Иисусе нашем Христе. — Твой сын.
— Мишенька! Мишенька! — кричит Павлинская. Задыхается, кашляет, принимается судорожно дергать дверь и только потом вспоминает про тройной замок и цепочку. — Мишенька, Мишенька мой. Приехал, приехал, сыночек…
Дверь открывается, и я тут же оказываюсь в пахучих объятиях. Амбра, тяжелый восточный уд, валерьянка, немного нафталина, чуть запаха старого тела. Матушка обвисает на мне — высохшая мумия себя прежней, под тяжелым бархатным халатом ее и нет почти, так, косточки, пергамент кожи и маленькое, измученное страстями сердечко. Птичий скелет, оставшийся вместо моей роскошной матушки. Внутри раскалывается ампула с жалостью, жалость пропитывает меня мгновенно, и вот я уже обнимаю Павлинскую, дышу ей, ощущаю ее, напрочь позабыв, зачем я здесь, а главное, почему отсюда сбежал.
Я ехал к ней в полупустой электричке. Обычно в шесть утра люди двигаются в другую сторону. Из небытия в центр, не наоборот. Я шел против их течения, меня дергали за пальто, мне оттягивали шарф. От людей пахло вокзалом, от всего вокруг пахло вокзалом. Даже от меня. Тотальный кофе на вынос, прогорклые пирожки, железо и асфальт. Старуха в линялой куртке с меховым воротником тащила перегруженную тележку. Правое колесо попало в выбоину, тележка скрипнула и перевернулась. Я перескочил через нее раньше, чем старуха начала голосить.
— Ну и как там тебе живется? На чужбине? — спрашивает Павлинская, стряхивая пепел в фарфоровую чашечку.
Мы сидим в гостиной. Плотно заставленная мебелью комната похожа на старую беременную кошку, линялую с туго набитых боков. Хочется пнуть первый попавшийся пуфик, да жалко обивку, за которую было отдано тысяч двадцать. Я тянусь и поглаживаю пуф ладонью. Он жесткий, чуть влажный. Отдергиваю руку.
— Ну какая чужбина, мам? — Торопливо проглоченный кусок шоколадного торта заполняет меня от желудка до горла, слюна во рту из вязкой становится приторно-сладкой, хочется пить, но чай закончился. — Два часа езды отсюда.
— Говорят, у вас там корь, — не унимается матушка. Ноздри ее идеально вылепленного носа подрагивают в предвкушении.
Я замираю. Знаю, что сейчас начинается. Я умею различать бурю до первой капли, далекого грома и слабой зарницы. Я чую ее в самом штиле. Павлинскую уже отпустила радость нежданной встречи. И скоро ей станет скучно. Уже стало. Спасайся, Миша, спасайся, пока еще можно. Подхватывай манатки, опрокидывай стул, чтобы ее задержать, и беги к выходу. Моли всех богов, чтобы замок поддался с первой попытки. К черту, к черту отца, вопросы и расследования. К черту синопсис, Катю, издательство, все вокруг. Спасайся, глупец. Беги, пока она тебя не подмяла, пока она тебя не сожрала.
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)