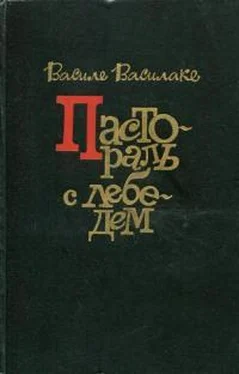Однако он не успел и слова сказать. Ирина, жена покойного, поднялась навстречу пришедшей, протянула ей стакан вина:
— Возьми, Руца, выпей за упокой души Георге… В память Георге…
Тогда и Руца, в свой черед, словно пришла к матери или старшей сестре, шагнула через порог и поцеловала протянутую к ней милосердную руку. И разрыдалась безмолвно, только плечи ее сотрясались, и молвила, глотая слезы:
— О-о, леликэ Ирина…
Она взяла стакан дрожащей рукой, и крупные, красные, как кровь, капли виноградного гибрида выплеснулись на пол.
— Не могу, леликэ… Ох, нет, не могу!
Как будто хотела сказать: «Не могу жить… и умереть тоже не в силах!»
Она подняла глаза — колдовские свои глаза.
Никанор так и ахнул: ох, хороша! Краса ненаглядная, не отвести взгляда.
Подняла свои колдовские очи Руца-Волоокая и сказала:
— Позвольте и мне, прошу вас… Ирина, прошу тебя, как родную… Добрые люди, дайте мне поплакать над ним!
Все молчали, хотя каждый собирался что-то сказать и даже, кажется, как-то сказал, только так тихо, что почти никто не услышал:
— Эх, милая…
Никанор присел на лавку, подумал: «Мде, фа Руда… Плачь, женщина, если все муки этого дня могут хоть что-то изменить в мире, плачь!..» — и медленно выпил свой стакан.
И в это самое время… Заскрипели, задергались старинные дедовские часы, пробили двенадцать раз. А это означало, что кончился день сегодняшний и начинался другой, еще неведомый — пятый и последний день Георге Кручяну.
Перевод М. Ломако.
Какой горький у нас обычай — беседовать с усопшими…
Ясунари Кавабата
Косматится ковыль на косогоре: «ш-ш-ш-шу, ш-ш-ш-у», словно ветром растрепало гриву и земля понеслась вскачь из-под ног. Давным-давно, в детстве, я таскал домой ковыль охапками, мастерил всякую всячину. Помню, мама печку подбеливала — «шорк-шорк». Смотает на скорую руку пучок травы и елозит известкой вверх-вниз, «шорк-шорк», будто хворый в шлепанцах плетется.
А сейчас почему ковыль свиристит, боится снова охапкой сена стать? «Ш-ш-ш-шу, ш-ш-ш-у», земля голос подает…
Стелется у ног ковыль, кивает.
— Тс-с-с… тиш-ш-ше… Зачем пришел, малыш? Оставь нас в покое, и меня, и того солдата, пусть спит, ш-ш-ша… И поля здесь те же, и отары, и звенит колокольчик, как над убитым из баллады. Тишь да гладь, от веку и поныне. Говоришь, кровь… видел, как текла кровь человеческая? Ну и что? Ведь сказано было — для блага людей кровушка льется, и не раз еще прольется, милый мой. Правда, затеяли бойню такие же люди, они тоже сражались до победного, «во имя добра и во славу Отчизны». Но никого этим теперь не удивишь. А ты… глупенький ты, детка. Ну, ступай, ступай, кто старое помянет…
Погоди-ка, что тут трава бормочет? Малышом окрестила… Какой я ей малыш! Давным-давно дед, пятеро внуков, шестой вот-вот на свет появится. А было время, штудировал Иммануила Канта, набирался у старика премудрости. Или ученость не в счет и дед остался для ковыля зеленым юнцом?
— Ш-ш-ш-ша, ш-ш-ша! Ты же седой, деточка, как и я, а гляжу, все с Кантом своим в обнимку. Разве об этом надо на закате дней?.. А-а, вспомнил, верно, того солдата? Да-да, была жара и ветер, а он лежал мертвый… И я не оттолкнул его, принял честь по чести, это вы, люди, бывает, отмахиваетесь походя. Или не прав ковыль? Ш-ш-ш-ш-шу… Ну ничего, придет срок, и тебя успокою, дитятко, утешу. Твой Кант давненько уж на кладбище и сам стал ковылем-травою. Всему свой черед, и мне, и тебе…
— Хм, с каких пор трава уму-разуму учит?
— Видишь ли, детка… Ш-ш-ша… «Говорящий не знает, знающий не говорит». Слыхал про такое? Не трогай меня, не вороши старого, и ни звука. Все проходит…
Ах, вот оно что…
— Стало быть, мы — тлен и суета? Но мимолетное и тленное на земле старо, как сама земля. Приходим мы в этот мир, уходим, а я, старик, разобраться хочу, постичь — что есть человек? А что — трава. И хочется рассказать… Помнишь, тот солдат раскинулся на окровавленном склоне, и я увидел… Ну, помнишь, в то утро бросился опрометью к селу, а сердце трепыхалось с перепугу: «Там мертвый в ковыле… Вокруг ни души, а он в траве лежит. Ой, спасайте скорее, его муравьи заедят!» Добежал до околицы ног под собой не чуя, увидел у колодца Каранфила-старшего и крикнул… Чего я тогда испугался? Как растолковать тебе, трава… Что ты знаешь о страхе и боли, о памяти? И сколько еще такого, о чем никогда не узнаешь.
Читать дальше