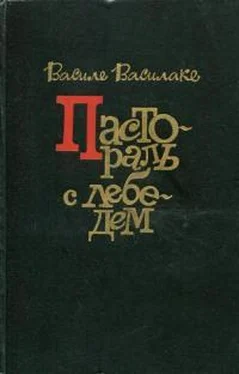Ковыль все шепчет-лепечет свое «баюшки-баю»:
— Ш-ш-ша, тихо… молчи… видишь, старик, только мне, траве, ведомы мир и беспечность. А что ты сам-то смыслишь в смерти? Если хочешь, растолкую. Вон, погляди на овечек — жуют меня испокон веков, а о смерти, небось, знают не больше твоего.
— Ладно, отвяжись, ковыль, не мешай…
…В тот день человек лежал, раскинувшись в траве, и по рукам, по лицу его сновали муравьи. А овцам все одно, что есть он, что нет; на миг лишь отпрянули и опять поползли по склону за зеленой травкой…
— Ну и что? — встревает ковыль.
— Сказано, хватит тебе! Я-то ведь не трава и не овца, в конце концов! И бежал к селу во весь дух: «За что его убили? Или он не читал бумажку с буквами-фасолинами: «Во имя господа бога нашего и святого креста…»
Прибежал я на пастбище, к отаре, а народу толчется возле погибшего видимо-невидимо. И первое, что услышал, были слова баде Каранфила:
— Э-э… да он уже вроде того… В самом деле помер, что ли?
— Ну и сказанул! Будто война — просто чья-то причуда, завихрение, стало быть, и нечего рассусоливать. А то, что и я, и мой брат Ион наделали шуму, так это по собственной глупости. Бестолковый Прикоп, тот пусть хоть оглохнет от воплей: «Мертвые, раненые!..» Кого-кого, а Каранфила не проймешь: «Ну, преставился человек, эка невидаль! Никто своей доли не минует. Оно вроде и не к спеху, а все там будем, чего зря языком трепать…»
Мужчины, женщины, дети толпились вокруг тела, старики переминались в сторонке. А я ждал, когда же наконец они падут на колени, как издавна, говорят, было заведено. Вот-вот баде Каранфил возгласит, подобно воинственному римлянину: «Граждане! Сей ратник пал в неравной битве с ворогом трижды коварным, ибо, суля дружество и свободу, тот подстерег его с неба и наслал огненную смерть. Он пал, защищая отчизну. Давайте же почтим его и предадим земле — и отомстим!..»
А на деле что вышло? Баде Каранфил перекрестился кое-как, словно от мухи отмахнулся, да промямлил:
— Он уже того… вроде как помер…
Спрашивается, чем он лучше Прикопа? Или здесь что-то другое кроется? Ведь род людской, сколько помнит себя, войнами да раздорами тешится, мог попривыкнуть к кровавым забавам. Потому, наверно, и выветрился из баде Каранфила дух борьбы? В самом деле, что за охота драться, восставать, если всякие летающие железяки так и метят проткнуть тебе темечко? Воскрес-то пока один Христос, знаете ли, и то через трое суток после удара копья, а попробовал бы он из-под бомбежки вознестись!
Так что, как говорится, каждому времени свое: лежит мертвое тело, аккурат к месту пришлось, прямо в борозде. Ну и пусть лежит, а мы тихохонько-смирнехонько разойдемся по домам. Один Прикоп здесь, в поле, воин — ощерился и замер, неказистый недотепа. Надоело ротозейничать, блеснул по-волчьи глазом и сорвался, как гончая, рыскать по балкам, оврагам, воронкам да рытвинам — не найдется ли какой штуковины-диковины?
А наши все хороводились, и каждый со своим соображением:
— Может, на спину повернуть? Не поймешь, чего с ним. Глянуть бы, куда задело…
— Как думаешь, пулей его или осколком?
— На виске рана, не видишь, что ли?
— Не о ранах бы говорить, а о душе, бре. Знать, и охнуть не успел, сердешный…
Что они воду в ступе толкут! Я не утерпел и сунулся вперед:
— Чего ж вы стоите? Поднять его надо и отнести, а то муравьи съедят! С самого утра лежит… это я его нашел!
Не помню, кто закатил мне подзатыльник:
— А ну, сопляк, марш отсюда. Вертятся тут под ногами.
Отлетел я в сторону, вижу — перед глазами чей-то подол. А-а, юбка бабушки Мэфтулясы… Ух, от обиды даже горло свело! Но теперь, когда я состарился, другое думаю; кажется мне, что обычными, простыми словами, какие слышишь каждый день, отгоняются на время страхи, горе, скорби. Выходит, правы были мои односельчане, незатейливые их разговорчики были не пустозвонством, а чуть ли не ворожбой…
Не знаю, кому я подвернулся под руку, только никак не мог выпутаться из Мэфтулясиной юбки. Саму старушку подхватили под руки две женщины — как с креста снятую, от плача она совсем обессилела.
— А-а-а, где же ты, маленький моо-ой…
— Потише вы, не слышно ничего! Поглядите сюда… кто-нибудь знает его? Ближе, ближе подходите. Чей он? Да не все сразу!..
Это тетя Наталица подоспела; что, не верили? Не станет ее сынок дорогой зря народ мутить. Вот, удостоверьтесь: «У нас мертвые, у нас раненые…» И слышим:
— Ну, которые тут в положении — мотайте-ка отсюда, бабоньки, что даром глазеть. А то жуть возьмет, не стряслось бы беды, упаси господи.
Читать дальше