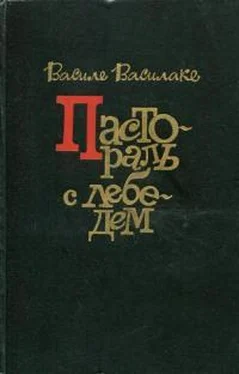— Эге, я угадал! Глянь, чем не Штефан? — вертелся вокруг и балабонил все тот же благожелатель. — Разуй глаза, Котялэ: и ростом, и сложением в самый раз, вылитый… — Вдруг он поперхнулся: — Ой, чего это я, лицо-то как исковеркано. Нет, гиблое дело, не дознаемся, люди.
Помолчав, отозвался Георге Лунгу:
— Вот народ, ей-богу, все через пень колоду. Кто вас гонит, куда спешите? Жил человек, жил, а подступил край — отлетела душа, значит. И нам, если по-доброму, надобно постоять, подумать, каков он был, может, не весь ушел со смертью-то, осталась еще малая толика… Перво-наперво имя бы узнать…
— Обойдется, без имени похороним как миленького! — это из Сынджеров кто-то.
— Нельзя без имени, не по-людски. Разве он виноват? У всякой твари земной свое прозвание, а мы мертвому в этом откажем?
Лето стояло знойное, короткие дожди не спасали от жарищи, зелень сгорала в пекле, покрывалась пыльным, белесым налетом. Мало радости возиться с покойником в этакую пору — найди-ка охотников могилу копать. Вчера после обеда ливень простучал по крышам, а нынче опять духота, печет зверски, под сорок…
— Ишь как его угораздило, в висок. Интересно, осколком или пулей? — суетился всезнайка.
— Хватит стрекотать, в ушах звенит! — резко одернул мужской голос. — Накрой тело и не мельтеши перед глазами, умник.
Это средний из Сынджеров, а всего их, как вы знаете, семеро. Говорят, ищут здесь шестого брата, того, что в армию забрали. Где за своего постоять, их водой не разольешь, вот и сейчас все в сборе, как виноградины в спелой грозди, одна к одной. А чтоб поменьше было ахов-охов, накрыли погибшего пустым мешком. В поле и простая рогожка сгодится на саван…
— Пора кончать, ребята, — сказал старший Сынджер. — До завтра тут валандаться? Раздобудьте лопаты, и по-быстрому…
— Что, аж на кладбище тащиться?
— Какое кладбище, солнце заходит. Кто за лопатой сбегает?
— Давайте шевелитесь, стемнеет скоро.
— А-а, где же ты, маленький мо-о-ой…
— Уймись ты, бабка. Вот разнюнилась! — оборвал ее старший Сынджер, — Радоваться надо, что не твой сын.
Странные суждения у этих Сынджеров — будто без чужой подсказки человек не сумеет порадоваться.
А тетя Наталица опять взахлеб о своем:
— Как пошел мой Ион на войну… «Прощай, мама, — говорит. — И знай, помирать буду, а от наших не отстану!» А услышала: «У нас мертвые, раненые!» — и забыла, где я, что я, кричу как полоумная: «Ион, сыночек, на кого ты меня оставляешь, маму свою…»
Никто ее не слушает, лишь ковыль покачивается и поддакивает: «Кто сомневается, что ты… так все и было… именно так он и сказал, твой храбрец… ш-ш-ш-шу…»
Женщины обступили солдата — подъехала из села бабка Сынджеров, подслеповатая и немощная старушка, в чем душа держится. Ноги давно отказали, приходится на телеге возить.
— Кристя! Ну-ка помоги слезть, — велит она самому младшему. — Так, так… — Уселась на землю, довольная собой, передохнула. — А теперь слушай, Кристя. Подойди к покойному и посмотри… хорошенько на лицо посмотри. В углу рта, слева, нет ли там пореза от бритвы? Ох-х, устала бабка…
Она старшая в роде Сынджеров, сама всех вынянчила и поставила на ноги. Сейчас за ней, как за судьей, последнее слово, признает убитого или нет.
— Когда мать его, покойная моя сноха, родила и хотела первый раз покормить… — Тем временем стянули с солдата старую мешковину. — Сидит, ждет, а сынок грудь не берет, — как ни в чем не бывало, продолжала старушка. — Схватилась мать и ну плакать! Я говорю: «Что ж ты, дитя мое, не радуешься? Сколько баб, поглядишь — и красно, и пестро, а пустоцветом живут. У тебя вон какой богатырь, теперь и смерть не страшна, не оборвется твоя ниточка, дальше повьется». Она слезами заливается: «Рада я, мама, видит бог, как рада, да не жилец у меня сыночек, не сосет…» — «А ну, красавица, — говорю, — дай ему сиську». — «Даю, — говорит, — мама, а он не берет, не удержит никак. Смотрите, не может сосать!» И в рев. А у мальчишки язык к низу прирос, лежит во рту, как привязанный. Я бегом домой, схватила бритву мужа покойного, вернулась и велю снохе: «Держи крепче!» Хотела разрезать пленку под языком, а то шепелявил бы всю жизнь, куда это годится? Сноха держит ребятенка за голову, увидела бритву и давай дрожать, по глупости своей. А он, дурачок, дернулся, и на тебе, получил, задела бритвой. Роток пошире стал, чтоб хватал побольше! С той поры и шрам.
Я стоял, выпучив глаза от удивления. Была у меня в детстве дурная привычка, как у Прикопа, ротозейничать, будто все умное, что люди говорят, через рот влетает… Стоял и дивился: значит, человек, придя в мир, не только имя получает, но и какую-то отметину? Чтобы с другими не спутали? Теперь, через много лет, другое думаю: ведь старая Сынджериха вроде «лекции» закатила о материнском призвании: рожайте, милые, как от веку назначено, войны придут и уйдут, а человеческому роду не должно оскудеть…
Читать дальше