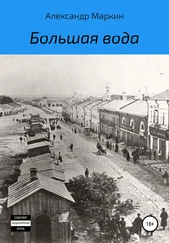— Нет, нет! — бушевали уже все.
— Проклятый фашист!
— Сердца у тебя нет!
— Кровопийца! — отовсюду летели проклятия, палки и камни сыпались на голову Методик Гришкоского. Все, сжав кулаки, повскакали с мест. Будь я проклят, сжав кулаки.
И тут Кейтен добавил последнюю каплю в переполненную чашу. Он широко открыл глаза, склонился, артист чертов, протянул к нам окровавленные руки и тихим, скорбным голосом произнес:
— Товарищи, я умираю. Да здравствует заветная свобода! Да здравствует Революция! Долой тиранию, смерть фашистам!
Боже мой, он так это сказал, что мы не могли ему не поверить, мы потеряли рассудок. Он был артист, партизан, раненый, умирающий. Клянусь, мы остолбенели, когда со своего места на передней парте вскочил, как ошпаренный, похожий на огромную обезумевшую птицу, папочка с револьвером в руке, и крикнул:
— Не повесишь, проклятый фашистский пес, — и направил заряженный револьвер прямо на бедного Методию Гришкоского.
К счастью, Метеор не потерял присутствия духа и храбрости, пусть земля будет пухом этим чудесным незаметным героям, маленьким, всегда в стороне, отринутым людям; клянусь, посреди этой бучи он выпрямился во весь рост и сгреб Методию Гришкоского в свои объятья. Притворившись, что душит его, он шепнул: — Умирай, дурак, если тебе жизнь дорога! Сдохни, фашист, — и это немного успокоило папочку. Он сказал:
— Конечно, это было бы самым справедливым наказанием. Как ты мог, скотина эдакая, таким тесаком его тыкать! Чтобы всего выпотрошить, посмотреть на его золотое сердце, ясные глаза выколоть, кожу содрать!
— Убийца! — раздалось в большой северной комнате.
— Но это же никакой не штык, папочка, это метла, метла из кухни, — попытался оправдаться горемыка.
— Молчи, — мудро сказал ему Метеор, — сам виноват! Перестарался, дурень.
— Фашист!
— Смерть ему!
— Ты убивал, колол, вешал!
— Смерть!
Все его характеристики сразу как водой смыло. Будь я проклят, водой. Конечно, этого ему было не забыть никогда. Рыча от боли, как раненый зверь, истекающий кровью, везде в доме он поджидал Кейтена, готовил ему страшную месть. Именно, месть.
Каждую ночь я ждал около стены. После того, как все уснут, я уходил украдкой и как тень, как оглушенный бродил вдоль стены. Возвращался только поздно ночью, еле передвигая ноги, как будто шел из управы, тащился по лестницам, как побитый. Будь я проклят, по темным обшарпанным лестницам дома. На четвертый этаж, в северную часть, в треклятую спальню. Как могли додуматься сделать такие извилистые, крутые и темные лестницы в доме для больных людей и слабых детей. Мне хотелось закричать: Кейтен, друг, проснись, беги из дома, они тебя убьют!
Кейтен, как будто услышав мой сдавленный голос, поджидал меня наверху лестницы.
— Фьють, — засвистел он птицей и громко засмеялся моему испугу, как смеялся он один.
— Беги, — воскликнул я, — уходи, уходи из дома!
— Лем, малыш Лем! — сказал он, — ты что не в постели, почему не спишь?
— Как тут заснешь, — ответил я, — как я могу спать?
— Стисни зубы, Лем, и спи, — сказал он, все смеясь, не мог он не смеяться, и, как обычно, потер лицо руками, раздумывая, удаляясь в своих мыслях, улетая…
Как подкошенные, как будто нас срубили под корень, мы рухнули на ступеньки. Была поздняя ночь, и дом тонул в знакомой глухоте, казалось, смерть тут привычная гостья, и давно исчез последний луч жизни. Мы все мертвы, мы — тени.
Я не помню, чтобы потом мы проронили хоть слово. Мы молчали, онемев, захваченные потоком Большой воды. Большая вода опять чудесно явилась, как во сне, как далекое эхо. Будь я проклят, пришла. Клянусь, в его сердце ничего не изменилось, оно было все то же, сердце Кейтена. В нем были и дружба, и любовь, и товарищество, и приятельский взгляд, и смех, его смех, желания и вера в Большую воду, правда о Сентерлевой вершине. Будь я проклят, эта вершина существовала, вершина солнца, вечных золотых туманов. Добрый сон опять становился явью, ничто не могло уничтожить стремление к свободе в наших сердцах. В них было много любви, приятель. Будь я проклят, любви. Вокруг была Большая вода, клянусь, единственное что осталось нам от жизни в доме. Что могло быть лучше и больше этого?
Я не знаю другого места, где детство умирает так быстро. Будь я проклят, если есть еще место, где детство так бездушно хоронят. Детство, прекраснейший цвет жизни, облетало, как засохший одуванчик. Никто не знал, куда исчезли дни детства. Я чувствовал, что за время, проведенное в доме, за это короткое время, мы состарились на много тысяч лет. И вот наступил тот единственный день, самый страшный, самый прекрасный день в доме. Будь я проклят, тот один единственный день.
Читать дальше
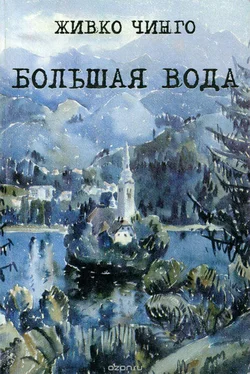




![Мадлен Л’Энгл - Большие воды [litres]](/books/424737/madlen-l-engl-bolshie-vody-litres-thumb.webp)