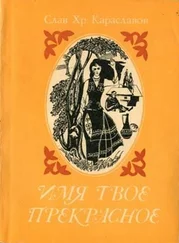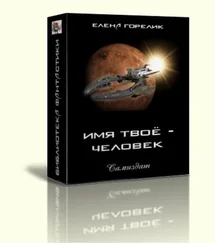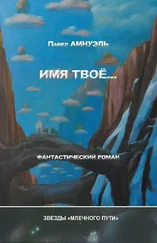Михаил Богатов - Имя Твоё
Здесь есть возможность читать онлайн «Михаил Богатов - Имя Твоё» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Санкт-Петербург, Год выпуска: 2015, ISBN: 2015, Издательство: Array Литагент «Алетейя», Жанр: Современная проза, Религия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Имя Твоё
- Автор:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Жанр:
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906792-27-3
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Имя Твоё: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Имя Твоё»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Имя Твоё — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Имя Твоё», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Часть седьмая
в которой мы узнаем о свойствах степного неба ночью, о сломанной хоккейной клюшке в шкафу, о беременных кошках, о том, как набить синяк на животе, есть ли в деревне Париж – и кое-что еще
Не случаен солнечного света квадрат этот на заднем дворе, тенями крыш домовой и сарайной очерченный, высвечивающий ярко невообразимо, до рези в глазах, ежели даже не смотреть на него, таза, белого когда-то, половину, грязью заляпанную, это от дождей всё, земли тут нет вовсе, может под землёй разве только, глина лишь серая наверху под ногами, и потому к ней ещё присохли соломы пучки, таз ведь для корма пернатым тварям куриным, гусиным, утиным, а подстил там завсегда соломенный, летом бывает травяной, но в степи трава летом почти соломенная, а в итоге всё травяное соломой оборачивается, либо грязью, из смеси каковой здесь даже дома бывало ранее делали, мазанками называются и ещё встречаются, сейчас не строят таких, нет, и таз хотя не белый уже, но солнце так выхватило его из-под крыш заговорщицки, само спрятавшись, небо синее высоко-высоко, прямо над головой, если смотреть, шею больно и в глазах затем всё рябит, холодный цвет небо там имеет, но это там лишь, а здесь его так и не чувствуешь, ни неба, ни холода, жара, говорят местные жители, несусветная, и никогда холод сусветный не говорят, и мало кажется вообще заботятся о том как говорить и что говорить, но то лишь кажется исключительно, а на деле к любому соседа замечанию незамысловатому прислушиваются незаслуженно внимательно, сто отмычек подберут, не подумав, что открыто здесь, заходи не хочу, именно что не хотят, поскольку целый ритуал это: слова соседей обсуждать к вечеру, услышав предложений на страницу, схолиями их многотомными изустно снабжать, но то к вечеру, а пока чуть полдень минул; таз не белый, нет, но солнце так лежит на нём, куда не смотри, в случае любом будет яркостью своею в зрение попадать и никуда не уйдёт ведь, хоть голову отворачивай на забор соседский, непременно всё заглушится присутствием тазовым, хоть на сенник смотри серый с вкраплениями гвоздей ржавых и непонятных пятен природы чудной, в котором переночевать ещё как-то обязывался, хоть на узкую дорожку пялься между сараев приземистых, точнее приглинистых с одной и загонов решётчатых для птиц и зверья домашнего покрупнее с другой стороны, хотя какие эти гуси птицы, сволочи здоровые шипящие и страшные, крылья огромные, а взлететь способны не выше курицы, и тут ещё не ветерка ведь, мухи позади жужжат, вовнутрь заползая банки из-под молока сбора утреннего, предрассветного ещё, которым завтракают перед тем как исчезнуть, куда тоже непонятно, но теперь никого, сгинули, дом пустой без хозяев, открытый, заходи кто хочешь, но что-то желающих не очень, на дне банки ещё остатки молока имеются, для человека мало, для мух предостаточно, трое из братства мушиного вон уже в молочных реках почили и кисельные берега им даже не требуются для этого, две добивают себя, безнадёжно выбраться стремясь, но нет, не выйдет у них ничего подвигу лягушиному подобного, когда взбили масло лягушата незадачливые или, напротив, задачливые, это как посмотреть, у них телеса ведь холодные, лапы сильные, у мух вообще не разберёшь температура какая тела, попробуй градусник прижми под лапу мушиную или в пасть им запихай или куда ещё постарайся, как же, чего проще, но не только мухи, нет, ещё слышно поскрипывание иногда неритмичное цепи из конуры пёсьей, а самого не видно, будка хоть и на тень приходится в это время дня, но не очень-то выходить хочется, всё равно ведь жарко до невероятия, и больше для слуха ничего, ежели не считать бормотания свои невразумительные и иногда скрип колёс велосипедных, проезжающих по улице соседней, но эта скудность вполне себе компенсируется кисловатым уже запахом молока остатков с безвонными останками мух в оном, ведра помойного, пустого ныне, но оттого все слои обнажившего археологии жизни ночной домашней, первый слой борща варенье, там овощные очистки, второй слой посудный, из-под тарелок оборщенных после ужина отмытых вода мутная в мыле и жире, борщ наваристый со сметаной, третий слой, наиболее влиятельный: ночью по нужде ходили и окурки сигаретные туда же бросали, утром всё в яму выгребную выплеснуто, но запахи от ведра не делись никуда, способствует солнышко их распространению сладостному, как и от сараев со скотом несёт коровками и лошадками, да и яма, в себя великолепие ведёрное принявшая эта всё, она тоже неподалёку, и будь ветерок хоть малейший со стороны дома, она бы приветливостью жизни людской поделилась с радостью своей выгребной, хотя ныне она не выгребная, а загребная, она и сейчас тоже делится, да сил не хватает на дом, там, себе неподалёку, радостью одаряет ночью накопленной и утром принятой, и оценить это может тот лишь, кто мухой привлечённой и очарованной неподалёку кружить будет, мухи жары не боятся, а теперь если в яму помочиться, то сразу можно накрыть навеки пару мух струей, а остальные поднимутся невысоко, интеллигентно вид сделав, что не было ничего, внимания не обративши на поступок варварский, и аккуратно к своим местам парламентским вспять возвратятся, но для этого нужно встать и к яме подойти, а не хочется этого, вообще не хочется к ней идти, шорты развязывать и далее по выписанному выше действие совершать аналогичное; в ведре, стоящем неподалёку, если уж так того хочется, тоже мухи ползают, шуршат деловито лапами своими, останавливаются наверняка, и передние лапки потирают, красными глазами не моргающими уставившись в ржавчину с белыми разводами жира и кислот: чем глубже эти мухи, тем шумнее и немушинее звуки от них, и спугнуть их чтобы, достаточно просто голову повернуть и до ведра доплюнуть или рукой до него дотянуться, щелчок заделать, но не хочется руки не то что пачкать, тянуть не хочется в раз лишний, ногой тронуть можно, носком сандалия, но к чему это всё, неясно, а вот таз отодвинуть, чтобы не мешал, глаза не мозолил, можно всё же, но и это лень, глаза закрыть проще выйдет, только и в этом случае от таза на фоне в середине оранжевом, по краям кровавом с чёрными муравьями и змеями лениво плывущими, будет маячить от таза пятно белое, однако, если глаза не открывать, можно теперь этим пятном по прихоти своей распоряжаться, двигая глаза под веками влево и вправо, и следя за тем как пятно уменьшающееся неторопливо вослед взгляду под веками направленному плывёт, так бывает, когда пенка от кофе в середине чашки, от краёв оторвавшись, и растворяясь постепенно, под воздействием животворным размешивания, вертится в стороны разные, за ложкой стремясь поспеть, жаль только, что пузырики, её составляющие, лопаются, остающиеся же друг к другу прижимаются, ряды плотнее сдвигают, спартанцам подобно, сжимаются своими боками сферическими, объединяются в один большой пузырь, который можно ложкой снова надвое разрубить, но не жалуются пузырики и мужественно вкруговую пляшут, гибнучи, а здесь даже ложкой водить не следует, исключительно глаза закрыть и тазом этим режущим, слепящим, назойливо белым вопреки цвету своему истинному плачевному, совладать этим тазом можно, а на это не каждый способен, не любой к этому приходит, чтобы так вот запросто, с места не двигаясь, власть уразуметь и с солнечным хитрым освещением бороться, власть, коей располагаешь тем более. чем в бездействие тело своё облачаешь плотнее. Ещё кошки пожалуй и птицы, максимальное обилие первых и катастрофическое отсутствие последних, ежели не считать птицами мышей летучих, когда позавчера ночью на велосипеде дедовском едучи, рубашка по ветру раздувается, расстёгнутая на первые четыре пуговицы, парусом надувается, приятно от духоты дневной, хотя и замедляет движение, ногами быстро-быстро по педалям прыгал, вдруг что-то туда и залетело, к животу прижалось и трепыхается, неприятно, тогда пришлось затормозить резко, так что щебень из-под колёс вылетает, и говорили друзья опытные возрастом хотя меньшим: так шины стираются и новых здесь не купить нигде, за ними в город нужно ездить намеренно, не случайно все почти ездят уже на шлангах, тогда задом каждую кочку ощущаешь, а здесь ничего кроме кочек на дороге, особенно где асфальт когда-то укладывали, лучше уж в поле по мягкой и пыльной, непривыкшим тогда лучше вообще на шлангах стоймя ездить, он так и ехал в ту ночь, но не потому что шины шланговые, а потому лишь, что торопился чрезвычайно, и вылетает от резкого торможения щебень из-под колес, пыль столбом в воздухе прохладном поднимается, до фонаря ближайшего достаёт, велосипед на бок заваливается, а он чувствует, что на груди кто-то продолжает трепыхаться, не показалось это ничуть, и писк какой-то жуткий, царапание, не комар и не мошка, а огромный комар или преогромнейшая мошка, и не соображая ничего от сердечного стука височного, избавиться лишь желает от гостя необычного, думает, что с ума сошёл, не иначе, ни души ведь кругом как назло, по траве вдоль дороге пыльно вытянувшейся упал и кататься начал, рубаху свою оранжевую разрывая, и на груде уже как-то затихла даже мышь летучая, а это она, хотя он её не убил, достал и разглядел впервые вблизи не по телевизору, и мышь бы разглядела или услышала его тоже, ведь даже по телевизору не сможет, с отвращением друг друга оценивающе осмотрели, но и любопытства было немало, аккуратно положил её в траву, а сам поехал в разорванной и мятой, рваной рубашке, затем выяснилось ещё и в крови всей перепачканной, своей и не своей, мышиной вероятно, грудь таки поцарапала своими когтями, но то не со зла, негоже нападением это расценивать, испугом скорее совместным всё вполне исчерпывается, вышло так, будто мышь поймал ничего не подозревающую, локаторы свои настраивающую неспешно, сачком тела и рубашки своих, и совы ещё тут низко летают бесшумно почти, по ночам и не ухают даже, а теперь днём лишь кошки, вон, две, в тени вдоль квадрата этого солнечного улеглись, и спят по-настоящему, даже щёлочек не оставили созерцательных или наблюдательных, будто мёртвые, и всё мертво будто, сам закрыл глаза ведь, от таза избавление обретая назойливого, но выглядят также глухо заперто как и кошачьи, неужели и они от того, чтобы таз не слепил, вот ведь ерунда какая, придёт же на ум такое, улыбается про себя, потому что глаза закрыты, а если со стороны видел бы, то и в самом деле улыбается ведь, не то что животные, хотя кошки эти обе тоже улыбаются ведь, ехидно так, одна обрюхаченная уже, другая под паром наверное, они чередуются, детей их топят в ведре этом же самом, они даже не успевают лапками своими с когтями мягкими поскрести по стенкам жирным и покричать не успевают котятки эти слепые, так, родились и сгинули в бульке воды ведра помойного, недоуменное житие с недоразумением даже сказать во взгляде слепом медвежье-львиной морды своей, ушки полукруглые, легче кошек того, на котов сменить, пришить им что-нибудь лишнее, нет, нефункционально получится, хотя бы зашить необходимое; он снова улыбается, но это оттого, на душе что тревожно, хотя покоит жара полуденная, схороняет тревог минуя; срывает полыни веточку, под ногой вдоль дорожки щербатой, в пальцах мнёт, к носу подносит, птиц нет, были бы деревья, больше чем имеющиеся никчёмные, были бы птицы больше чем имеющиеся, а так деревьев вместо кусты, сусликов много, и черепах вдоль реки насобирать без труда ежели захочется легко, они как раз сейчас там, понавыползали, свои раковины греют, губами пришамкивая, с глиной сливаются, жаль, что небольшие они, а то интересно ведь когда огромные тортилы; деревьев нет, и потому неделю назад ночевать пришлось в посадках, название такое для мест деревьиной жизни в деревне: посадки, там две осины и кустарник, залечь в который можно, и тогда не найдёт никто, что и требовалось, как в школе на геометрических уроках говорят, доказать. И волнение делось с тех пор куда-то, непонятно далее что будет, но скорее всего ничего далее не будет, такова жизнь, что в ней когда намечается что-то, ничего так и не наметится никак само, ежели тому не поспособствуешь, а он нет, способствовать не собирается, не враг себе он, и не друг впрочем себе же, скорее никто свой себе, посторонний, можно время у себя спросить, но не будет, ответ и так знает, тринадцать тридцать семь точно, а если нет, то всё равно точно другие цифры будут, другие не менее точные нежели эти, а посему разницы никакой нет какими их называть по порядку или в соответствии; вот спросить ежели у себя такое что в самом деле интересное, тоже не будет спрашивать, поскольку ответа не знает на интересное, лишь на скучное и точное знает, был бы и в самом деле себе посторонним, умел бы выдавать скучное и точное за интересное, что-нибудь непременно ответил бы, посторонние всегда всё знают, и в отношении других увереннее, куда как в своём собственном, действуют, значит не посторонен он себе, а какая-то форма промежуточная, полупосторонен себе, куколка, гусеница уже подохла, а бабочка ещё не народилась, плавает там себе в соплях зелёных непонятная слизистая мякоть, снаружи волосатая, они такие в школе жгли спичками, получится бабочка или нет, гусенице невдомёк, она подохнет и всё, а бабочка родится когда, вон над капустой возле ямы выгребной летает которая, противная тварь усатая, родится когда, плевать ей будет на гусеницу, растворённую в соплях для неё продуктивных, летает себе над цветочками, листочки пожирает, а что если и он сейчас и жизнь всю дальнейшую до смерти самой будет так же вот, в соплях растворённой слизью, нет, это сложно, сейчас уж лучше на речку пойти, там точно мелюзга прыгает с трамплина, а он смельчак, тоже хорош, испугался по дощечке пробежать, сзади толпа уже наседает, быстрее, быстрее, пока на доску заберёшься по глиняному берегу почти отвесному, промоченному прыгальщиками предыдущими, ноги как у колосса того самого, только голова не из золота, грязная от воды речной, в которой всякие зелёные точечки плавают, цветёт вода говорят многозначительно местные; когда на доске этой оказываешься, всё на свете перехочешь, она узкая, идёт прямо до реки середины на высоте порядочной, а точнее непорядочной нагло, скользко и высоко, чуть не упал, смеху-то было бы, ан нет, дошёл и прыгнул, весь живот отбил себе, сначала жжёт и радость, что дело сделал и в живых остался, затем видишь как живот красный весь, а затем дышать тяжело, не дотронешься, синяк огромный, к вечеру ещё и температура, но это он так определяет, без градусника, их здесь все на мух вероятно перевели, не иначе, озноб невероятный, тётка его, которую он на ты и сестрой считает, в комнате одной с ним, слышит зубами стучит: что с тобой спрашивает, он думал она спит давно уже; да так ничего, трясёт что-то, отвечает; замёрз, спрашивает тётка Ленка, усмешку какую-то непонятную в вопросе её слышит он; да, чтобы отвязаться только, отвечает; не скажешь же что прыгнул неудачно, стыдно; ну ко мне тогда иди, согрею тебя, говорит она, а у него дух аж захватывает, вмиг про живот забывается всё плохое и хорошее тоже, хоть ещё с дюжину раз прыгнуть готов, хоть ночью в одиночестве, это она что, спать ему с ней предлагает, говорит ей ртом пересохшим: да ладно я сейчас согреюсь, а сам не то что спать, уже ругает себя за нерешительность, она вон какая взрослая, на шесть лет старше, всё умеет, вот ведь шанс упускаешь, и ночью этой в комнате как будто нарочно нет никого больше, возбудился неимоверно, руками себя сжал там, но не шелохнётся, кровать сетчатая, вся скрипучая, и в помыслах исключительно то как она бы сейчас его возбуждение, ежели он с ней под одеялом бы оказался, почуяла, может и пошутила бы, но точно в руки взяла бы ему, сжала, она боевая, может, зубы застучали ещё пуще от понимания того, насколько это прямо сейчас возможно всё, и так всю ночь продолжалось, он в окно пялился на шесть прямоугольников разделённое над кроватью её, куда отсвет единственного на улице фонаря голубой падает, и план даже созрел на следующий день ей что-нибудь этакое полушутя предложить, и от этого плана ещё больше возбуждение охватило, и глаз не сомкнулся в эту ночь ни левый, ни правый, даже комара назойливого шлёпнуть не решался, потому как парализован был возможным могуществом своим, но ни на следующий день, ни когда бы то ещё ни было, он ей ничего не сказал уже, она лишь днём забегала, вечером с мужчинами взрослыми гулять уходила, а в комнате всегда ещё кто-то третий ночевал с ними, братья или сёстры, мать её или отец пьяный, дядя Коля, а на деле дед Коля, но синяк больше не болел, и когда он живота касался, то непременно геройски о себе помышлял, героем не осуществившимся, зато вполне внимание привлёкшим и могущим, могущим в самом деле, хотя кто в это поверит, не мелюзга же эта, которая на речке сейчас плещется, и ночь та прошла бесследно почти, утром тётка собиралась на работу рано-рано, когда коров доить ещё следует, а он не спящий, подглядывал за тем, как она одевалась, ночную сорочку скинула и в обнажении полном гладила себе платье в цветочек малиновый, белый, фиолетовый и синий, его груди её привлекли большие, не обвисшие, а манящие упруго к себе, ты мог бы меня потрогать сегодня ночью, левая говорила ему, а меня поцеловать, правая вторила, но он лишь телепатически с ними общался, на план свой рассчитывая, говорил про себя: всё будет, дорогие мои, именно так: дорогие мои, и не мог он им ответить вслух, тогда бы тётка утренняя, помеха досадная, распознала бы его подсматривание, и, хотя ночью предлагала ему согреться, при свете зари уж точно бы высмеяла, люди меняются демонически от времени суток за окном с шестью частями прямоугольными, ещё у неё почти рыжие волосы взъерошенные там были, но это не так волновало, сколько беседа с дорогими ему несостоявшаяся, и лишь когда она оделась и вышла, дверь аккуратно прикрывая, как бы не хлопнуть и гостя не разбудить, он кроватью наскрипелся достаточно и заснул сном мёртвым почти до вечера; но теперь до вечера ещё долго, и идти на речку к мелюзге не очень-то хочется всё же, открывает глаза он и на сенник серый смотрит. как там сквозь щели широкие просвечивает под крышей небо с другой стороны уже находящееся, но это лишь узкая полоска подкрышная, а всё остальное сеном перекрывается, сейчас, несмотря на июль, с полей степных оно не травой, а сеном натуральным привозится и укладывается, и лишь чуть-чуть преет, а ведь это самое приятное, от этого аромат полынный и тепло уютно-влажное по ночам. Лучше в дом пойти, там прохладно, но присутствия тех дом полон, кто сейчас где неизвестно, и тогда в кухню попадаешь сразу же, висит там занавесь марлевая вместо двери, которая открыта всегда летом, мухи чтобы не залетали висит, а на деле вылетать мухам на свет дневной занавесь эта препятствует, воздух расплавленный хранится в посуде грязной, на столе громоздящейся, и рукой над ней махнуть достаточно, чтобы, как из ямы выгребной, мухи в воздух поднялись прикорнувшие, бесшумно почти соседствующие с ползающими по стеклу единственного заляпанного окна кухонного тремя осами, воздух лежит тот же и в чистых кастрюлях, на полу расставленных вдоль стен, в сапогах резиновых огромных, с весны ещё глиной заляпанных, а ныне один навытяжку с голенищем расширяющимся кверху воронкой, ногу в себя заманивающей, другой набок завалился, чернеют сапоги на фоне стены безобойной цементной, и хорошо это, будь здесь обои, они бы ужаснее цемента выглядели бы, ничего хуже неудавшегося уюта с претензией на оный не бывает в домах чужих и собственном, удручает всё тогда и вселяет расположение духа дурное, но ежели на кухне не задерживаться, и не надо задерживаться, поскольку жарче чем на улице сейчас там, дотронуться достаточно до стены цементной, она лишь обещает быть прохладной, а погорячее твоей ладони окажется, коснуться если её, и нельзя здесь задерживаться, невкусно пахнет молоком скисшим тут и воздухом тёплым, который заворожено держит в себе этот запах и не отпускает его никуда, воздух, которым уже кто-то не раз дышал, и ещё пылью строительной и мебелью новой, хотя и без причин на то всяких, из мебели лишь стол старый раскладной когда-то с четырьмя квадратными ножками, и два табурета из комплекта к столу, правда к другому уже, которого здесь нет и не было никогда, и ещё два куда-то исчезли и неизвестно были они вообще когда-то или нет, и, кроме того три стула вдоль стены, которые лучше не трогать, хозяева так говорят и лучше уж им верить, трогай сколько угодно будет тебе, но не садись только на них; отсюда дверь белая с краской потрескавшейся и ручкой чёрной пластмассовой, держащейся уже на одном шурупе только, а другой был, о нём напоминает некрасивая дыра с заусенцами фанерными во все стороны торчащими, куда другой шуруп когда-то был вкручен, а затем будто выдернут и навсегда, чтобы оставшемуся неповадно было и что неизвестно именно, ведёт эта дверь в комнату, где телевизор стоит, два канала показывающий, один скверно, а другой ещё хуже, и чтобы смотреть передачи по каналам этим, необходимо непрестанно рогатину антенную двурогую во все стороны вертеть, благо она на пружинках и растет из неустойчивого куска пластмассы чёрной с переключателем бессмысленно манящим, вправо ныне выторченным, и к чему это смотреть передачи, включить телевизор, значит повернуть ручку тугую на телевизионном ящике внизу слева направо, а затем каналы перещёлкивать рукояткой не менее тугой, а громкость можно не уменьшать и вообще никак не регулировать, забыть про неё, в условие просмотра не входит ведь смотреть что показывают или слушать хотя бы внимательно, трещит он там себе что-то новостное вперемежку с рекламой и помехами ужасными, и пусть трещит, если будет между членами семьи беседа, они и так поговорят, где надо перекричат, а ежели будут ругаться друг с другом, что входит органически в любую беседу, или, точнее, во что любая беседа естественно выливается, то телевизор паузы затишные неловкости и обид, и гнева бессловесно раздражённого примет на себя безропотно, потому как всегда на него негодования обрушиваются: выключайте его к чёрту, или: сделайте потише что он так разорался, или: сделайте погромче, а ты заткнись, ничего не слышно из-за тебя, или: я из-за вас, уродов, не слышал, что там сейчас сказали, и несколько иных вариантов, набор вполне окончательный, ибо на деле всё это суть одно и то же, поскольку людей здесь интересуют только люди, и это ужасно подавляет, не меньше чем претензия на уют неосуществимая, и тогда кто-нибудь в кресле сидит единственном по диаганали от телевизора находящемся, кто-то на подобии дивана, когда-то даже диваном и бывшим, а ныне справа от кресла разместившемся вдоль стены с обоями уже жёлтыми и узорами коричневыми, а прежде зелёными с узорами золотыми, но все размещаются на полу, отодвинув с центра комнаты поближе к окну доску гладильную, которая теперь стоит опять посередине, доска с верхушкой самодельной и на саморезах прикрученной к ножкам магазинным, прямо напротив шкафа, с тремя неразбитыми и двумя разбитыми бокалами в баре без зеркала, из гарнитуров подарочных на свадьбу полученных и на рождения детей дни, гарнитуров разбитых тут же, на иных свадьбах и иных днях рождения, после которых детям книги читали детские и недетские, взятые в библиотеке сельской, давно сгинувшей по домам местных жителей, и частью соседствующей с этими бокалами в том же шкафу единственном, здесь нет у книг обложек и страниц многих, вероятно, самых несущественных, которые дети вырывали или их отцы и деды, дети потому просто, что страницы вырывались, а отцы и деды для скручивания козьих ножек, когда в доме сигареты заканчивались, а денег отсутствие или алкоголя присутствие препятствовало посещению неблизкого, а чаще всего к тому же и закрытого магазина, а в основном против книг ничего никто не имеет и если бы книги могли здесь выжить, то они были бы в нейтралитете полнейшем по отношению к людям, которых, впрочем, помимо людей, ещё иногда спортивные трансляции чрезвычайно занимают, и тогда все рассаживаются на полу и антенну вертят непрестанно и даже не ругаются, что редко бывает, зато часто спят в этой комнате, каждую ночь почти, втроём или вчетвером, спят и исчезают вместе с зарей появлением, часто это даже члены семьи, но не всегда и не обязательно совсем, иногда те, с кем хорошо выпил кто-то из членов семьи, или кто хорошо выпил без членов семьи, придя к ним и дома не застав, друзья, которым так поздно домой лучше не возвращаться, чтобы не поколотили их родители заботливые, подруги, которые ведут себя накануне чрезвычайно многообещающе, здесь почти отсутствует какой-то специальный запах, разве что пахнет лаком для волос и клеем, последний на поверку приводит к ящику нижнему выдвижному в этом самом шкафу, набитому пуговицами и лекарствами, и клея там никакого кстати, или, если нужно что-то склеить, некстати нет, в ящике же повыше, соседнем, фотографии семейные в одном большом и полупустом фотоальбоме, и остальные либо в пакетиках целлофановых, либо просто так навалены, и когда ящик выдвигаешь, что многие из фотографий неоприходованных, заваливаются в ящик с пуговицами и таблетками, а часть просто, готово и согласно загибается, а на фотографиях этих улыбающиеся молодые, красивые и здоровые люди в костюмах и платьях нарядных свадьбы, новоселья, дни рождения справляют или просто так собираются вместе, потому что им хорошо вместе, либо старые фотографии, где старики, бабушки бабушек из сепиевых цветов напряжённо всматриваются в объектив, сидят на фоне однотонном, и на фотографиях с людьми счастливыми и молодыми, можно комнату эту видеть с обоями ещё зелёными, и узоры на них ещё золотые, и это ничего, что фотоснимки чёрно-белые и сами выцвели при этом, обогатившись желтизной, с запечатлёнными на них новыми вещами, которые ныне состарились, не от времени, от пренебрежения скорее, произошло с людьми то же, что и с фотографиями, улыбались, счастье изображая на будущее, как это теперь понятно, для фотографии, сами в него не веруя, а не потому что счастливы, и случилось это пренебрежение не потому, что в доме нет хозяина, что, в общем-то, правда, а потому что люди решили, что людям людей достаточно и спортивных телепередач изредка, и за химеру эту зацепились всеми руками бурлачно-совместно, и кресло об этом вопиет в углу стоящее, купленное для несостоявшихся семейных вечерних посиделок, ведь будут же они, думали и покупали, у нас же семья и потому всё будет как должно быть у людей, но здесь во всех домах одно и то же, всё как у людей, изувеченные книги из библиотеки тоже об этом говорят, они хотели кого-то из людей чему-то научить, подарить радость или незлобливо огорчить для душевной услады рода особого, и все-все эти вещи столкнулись с тем, что людям нужны только люди, а потому счастье на фотографиях оказалось лишь обещанием, которое никогда не исполнилось: хотите счастья, смотрите на фотографии; и этот ныне пустующий дом, в котором ещё одна комната имеется, с шестичастным окном и полушкафом для одежды, у которого нет ни одной дверцы, всё давит своей несостоявшестью, там две кровати ещё, и доску иногда гладильную сюда заносят, а в шкафу под висящей одеждой лежит полусдувшийся мяч для волейбола, сыгравший пару раз и то исключительно в футбол, ибо в волейбол здесь отродясь никто не играл, но мячей футбольных в магазин также, впрочем, не завозили, а также клюшка сломанная хоккейная, применение коей неизвестно уже никому наверное, в любом случае, теперь от неё осталась палка рукояти и бумеранг нижней части, тоже перемотанный изолентой, велосипедный насос, вроде даже ещё работающий, и большой моток бечевы, ну и две кровати: одна его, пока он здесь гостит, а другая чья придётся, может прийтись тётя Лена, может тётя Лена и сестра Аня, а может брат Василий или брат Николай, а то и оба сразу, но в дом идти не стоит, лучше подождать здесь, пока спадёт жара, во дворе, и в дом этот даже когда люди там, тем более, идти не хочется, туда заходишь поздней ночью и желательно усталым до чёртиков или навеселе, чтобы уснуть и не слышать этих людей и этих вещей, обманувших друг друга. Люди заключают договор с фотографией, что будут любить людей, а при этом понимают, что людей можно любить без их связи с вещами, просто как они есть, и сосредоточенно предательски живут в сторону эту направляясь, а люди без связи с вещами скоты не более, да и те к вещам сильнее привязаны; на тех фотографиях, в ящике, имеется вид запечатлённый двора этого, там цветы виднеются которые здесь вот, где теперь помидоры чахлые и капустные вилки с бабочками, всё остальное то же самое, но как-то обещает, выглядывая с листка, большее; он достает из нагрудного кармана фотографию, вчера наконец-то полученную; хорошо хотя бы фотография вышла, люди так думают, на фото глядя удавшееся и обещающее, и он так думает теперь, на ней он с Ириной, обнимает на уровне груди, у неё руки вдоль туловища висят при этом безвольно и улыбка какая-то недоумевающая, хотя бы счастья фотография не обещает, которого никто и не ждёт от неё и от них, он почти счастлив, почти, отчего и тревожно теперь и неловко, но не настолько, чтобы вскочить и бежать, даже не настолько чтобы неспешно подняться и пойти, и не важно, что некуда, тревога подлинная безразлична к целям лирическим, но тревога тут пожалуй только и имеется, он гладит кошку серую, шерсть свалявшаяся на животе, по этим комкам очень неприятно рукой водить, взять бы ножницы сейчас из ящика того, что под фотографиями, разгрести просроченные таблетки, которыми тоже никто не пользовался для дела запланированного, как и креслом, нащупать ножниц рукоять и выстричь ей комки эти, привести кошку в вид человеческий, улыбается он, никто ведь здесь, где людей ещё надо в такой вид приводить, никто же здесь этого не сделает, и самому этого делать вроде даже незачем, но и в жизни руководствоваться тем, что другим требуется, нельзя, они сами не понимают, что им нужно и ты не понимаешь, что тебе, краешком расстёгнутой на все пуговицы рубашки пот утирает со лба и с щеки, руку кладёт на крыльца доску горячо нагретую, краска красная которого повсеместно вспучилась от непогод летних, осенних, весенних и зимних, и растрескалась по всей площади крылечной, от двери до нижней ступеньки, можно её пальцами расковыривать, как шелуху отдирая, краска ломается, но это тоже не то, что делать теперь следует, в первую очередь, по меньшей мере, а где-нибудь в Америке тоже теперь жарко, в Испании фиеста, здесь всегда она; хочется выпить воды холодной, в холодильнике банка литровая стоит такой воды, кипячёной, невкусной и тягуче-жёлтой, с неё в любом случае будет ещё хуже, хотя теперь неплохо, лучше вспомнить когда в последний раз мёрз, и легче тогда станет, чувством таким проникнешься, уловишь тогдашнее желание безнадёжное согреться, а случаев таких два было: в речке вечером вчера и неделю назад в кустарнике посадок здешних. И до сих пор неясно, правильно ли он поступил в ту ночь или нет, но кто вообще заставляет его об этом думать, в любом поступке достаточно трусости и героизма достаточно, но нет никакого смысла самому об этом после поступка думать, и он думает об этом, и как раз это самое удивительное, в самом деле, вот фотография, которую очень хотелось сделать, любой ценой надо было её сделать, это да, подлость на фотографии, нет: на фотографии Ирина и он, а само фотографирование, чего не увидишь и в день тот именно, когда оно свершилось, это подлость, пойти обниматься перед объективом фотографа единственного на выходных публичного не с той; а с той, кто только и должна стоять рядом с ним, не стоит, вообще неизвестно, что теперь с ней, ну да и ладно, а совесть грызёт: нет не ладно; кыс-кыс-кыс, иди сюда, тварь мохнатая, вот с тобой хорошо, кошка брюхатая трётся о ногу, лапки поднимает передние поочерёдно, взгляд ловит, переворачивается на сторону другую, опять взгляд ловит, он ей аккуратно руку на живот кладёт, там спинки котяточные дозревают, цепь пёсья гремит, видно приснилось что-то не то, животные доверие внушают, люди наоборот, как это, отбирают доверчивость в ущерб себе же, просто так, по мелочам; жаль, что котят твоих утопят, глаза зелёные, умилённые, зрачки палочки прямые и жмурит их ещё к тому же, он докуривает сигарету, осталось немного, вечером все расстреляют, поэтому лучше теперь самому докурить, тем более из них никто по-настоящему не курит, а ему надо; в ту ночь, помнится, выкурил две пачки от волнения, хотя не от волнения, а потому что в книжках, которые читал, часто писали: он закурил от волнения, или: он взволнованно закурил, и тогда-то, расценив состояние своё как волнение, он и курил, хотя в книжках ничего о состоянии подобном не говорится, зато о сигаретах говорится, надо же как-то с ума не сойти, но, ежели сигарет не было бы, то и не курил бы, главное про книжки не помнить или, ещё лучше, состояния не расценивать собственного, что вообще благодать высочайшая для него ныне, жить чем-то, этого не расценивая, и не потому что расценивает неверно всё, а потому лишь, что вообще происходящее мало нуждается в том, чтобы расценивали его, тем более личности такие малозначительные, трусливые и малодушные; происходящее безо всяких там расцениваний себе случается и им случается, всем случается, а ты отворяй ворота уж, готовься, и выходит, что расценивающий от себя же страдает в очередь первую и в очередь последнюю, потому как то, что случается не желает тому, с кем случается оно, зла никакого и добра, впрочем, также не желает, вообще ни желать, ни жалеть не умеет, а тут полагаешь всё изменению подлежащим, и душу лишь в смущение свою приводишь, покуда не можешь ничего на деле, лишь в безделье можешь всё; да, он тогда и курил много, парализованно, но не волновался. а впервые в жизни боялся, не чудищ придуманных и мертвецов умерших, не убийц людских и маньяков нездоровых, а реальных людей, друзей своих, и боялся того, что не знал почитай ничего о них, как оказалось; что они есть придуманные, умершие, нездоровые друзья его, бывшие рядом с ним тогда, чрезвычайно даже рядом, и которых сам пару часов назад тому искал, дабы, не знаю зачем друзья друзей своих ищут и видеть хотят, просто поговорить, узнать что с ними, хотя, что с ними может случиться, как они, руки пожать в конце концов, однако руки они в конце концов так и не пожали ещё до сих пор с вечера того памятного холодного, и он так же в тот вечер искал их, сигареты даже купил, не думал, что выкурит вскоре их от страха в одиночестве, чувствуя, что сейчас вот просто так убить могут, даже слова не успеешь вставить оправдательного или предупредительного; слова здесь не нужны, здесь только люди и люди, иногда спортивные телепередачи и книги, когда за сигаретами не дойти, и всё это неделю назад было, а теперь сгинуло куда-то бесследно, и друзья, и страхи, и сигареты те самые, но и эти сейчас туда же, он кошку пальцами ног перебирая гладит, лежит полосатая серость шерстяная на ноге его, в сандалию облачённую, и также, как прежде спит мёртво, но понаблюдать если, нет-нет, да открывает глаз левый на соперницу свою, в этот раз с животом лишь голодом и едой набиваемым, с укоризной вероятно смотрит, мол, мне одной за племя наше ушастое и хвостатое отдуваться придётся на этот раз, и уже, вон, отдуваюсь, а та, ежели взгляд перехватывает, понимает упрёк, может и не принимает, но понимает непременно, отвечает: и что же, зато я тоже от жары мучаюсь нынче, но вот точно неизвестно: не помнят ли они обе в самом деле или вид лишь делают, что не памятуют о детях своих прежних, в этом самом ведре сгинувших внезапнее, чем народились которые, и что ни один не выживал, и что они затем с плачем ищут их несколько дней после родов, чтобы глаза облизать, и молоком своим, ставшим таким бессмысленным вмиг, накормить, а может и помнят, специально теперь его охмуряют по-кошачьи, милостявят, чтобы хоть в этот единственный раз было всё иначе, он вздыхает, затягивается сигаретой, но в такую жару курить до ужаса неприятно, будто в бане натопленной изрядно, ибо приятнее всего на холоде, воздуха когда не хватает и надышаться трудно, а потому любой аромат приятен и ощущается лучше, в жару тоже воздуха не хватает, но его и не хочется, если честно. Теперь ничего не осталось от тех событий, а если и осталось у кого-то, то ему это неинтересно, ему нет здесь друзей, точнее, видеть никого уже не хочется, чтобы руку пожать, узнать как дела у них и сигаретой угостить, шутки несмешными стали уже все, но вечером он пойдёт на улицу всё равно, потому как дома оставаться ещё хуже, и тут уже компания не такая весёлая и живая как прежняя будет, но он любит смотреть на небо, открыл для себя небо июльское степное, со звёздами огромными: на лавку ложишься, голову на чьи-нибудь колени, женские лишь бы, и дивишься тому, как греки древние какие-то созвездия выделять смогли из обилия этого, здесь же что хочешь можно выделить, это как на листе белом выделить сочетание линий белых особое, зато у них красивые вещи получались, и удивительно, выкидывает он окурок в ведро котятно-помойное, кошка тревожно, глаза открыв, голову подняла, следит за траекторией полёта запоздало; удивительно что небо он увидел накануне той ночи впервые, когда с Катей пошли в посадки, но не в те, в другие, дальше намного тех, и не знал он, что они туда идут, что они вообще куда-то определённо идут, просто вроде бы гуляли пока светло, потому как в темноте они тоже гуляют, но иначе: на лавочке сидят, а тут гуляли буквально, шли долго через всю деревню, и была в тот вечер деревня хоббитанией до начала всего, никогда он её такой удивительно умиротворенной не чуял, хотя и провожали их люди взглядами и наверняка обсуждали недобро, но казалось, что благословляют их и не иначе, затем через поле шли, что за деревней сразу, покатое и как бы в трубочку свёрнутое гигантскую; там, посреди поля колодец стоит каменный, удивительно сложенный будто из замка средневекового, и странным это ещё ему показалось, они в колодец заглядывали тогда и не увидали воды там, но то оно и понятно, она же глубоко внизу должна быть, хотя камешков не бросали, пригодится ещё сказал он пословицу, и прав был, на обратном пути, под утро, пил из этого колодца такую же воду местную, невкусную и тягучую, которой не напиться никак; и шли им навстречу коровы, пастух гнал их по дороге, а два бойких пса дворняжных, с хвостами, бодро кренделями скрученными, деловито туда-сюда шныряли под телами бурёнок, языки вывалив из пасти, но не тявкали; он пошутил ещё, что собак этих неплохо тоже подоить было бы, и шутка эта неудачная, он тогда решил этого не замечать даже про себя, но знал наверняка, а теперь уже не страшно, всё равно всё позади и лишь спокойствие ленное ныне испытывается, а потому он даже вслух говорит себе: шутка эта неудачная и дурацкая, и голос его услышав, к нему вторая кошка подходит, рядом укладывается, не на ногу вторую хотя бы и то спасибо; а они всё шли и шли в тот вечер, за руку он Катю держал, как думал, но, скорее всего, она его, не смотрел на неё, он предпочитал слушать её, и тогда она была прекрасна, а лицо её он видеть вовсе не привык, потому как общались они в палисаднике её по ночам и познакомились также, знал лишь сразу почти, что тело у неё упругое, поскольку обнимал часто, поглаживал, прижимал и шутливо приставал, ни на что не претендуя из отказа опасения последующего, чтобы глупо было его всерьёз воспринимать, это он всё помнил, а теперь руку её сжимал потную, но иногда ладони приоткрывали щёлочкой, чтобы руки остыли, а затем с звуком таким странным, резко прижимали их вспять друг к другу; она что-то ему говорила, точно помнил он, что она говорила, просто значения это никакого не имеет вообще: о себе, об учёбе в школе, об одноклассниках и о музыке любимой, которой у неё не было почти, ибо из родителей один отец и тот запивающий периодически, некогда ей музыкой заниматься, а говорить начала потому лишь, что от него часто слышала разговоры о книгах да о музыке; что касается книг, так она их бросила читать, некогда, пока скотину накормишь и отца накормишь, он тогда ещё хотел пошутить насчёт того, что отца можно было не выделять, ибо зол он стал на судьбу её и хотелось её защитить немного, но лучше бы не хотелось, а вообще он много раз, излишне много, более чем достаточно, неудачно шутил и шутил удачно не меньше, рассказывал о себе, кое в чём привирая, стараясь тем не касаться, которые ей жизнь не позволяет изучать, но не знал зачем о себе говорил, ибо впервые от себя очень много нового о себе услышал, и, в общем, узнавал нового не меньше, чем она, но теперь не воспроизвёл бы этого, и пусть это всё в Лете внутренней сгинет и не всплывает никогда, хотя такое всегда всплывает и не тонет по-настоящему даже, но всё это потому может, что говорили тогда без свидетелей с Катей впервые, и, кстати, в последний раз говорили с ней тогда, хотя, честно сказать, может и не надо этого добавлять было, но дело сделано, также как не надо, наверное, было и о том, что тётя Лена больше никогда не будет спать в этой комнате с ним наедине, ведь он-то этого не знает сейчас, и никто не знает, покуда человек жив и молод, но в том-то и всё дело, что здесь полдень, которому минуло десятилетий несколько, а насчёт жив лишь Тот ведает теперь воистину, о ком всуе не стоит. и не чтобы нельзя, мы-то люди не суеверные, но не будем и всё, не важно и всё; они тогда впервые общались долго наедине, и день сходил на нет, впереди них поле озарялось солнцем закатным, позади распластавшимся, и в степи красиво было неестественно, хотя ничего красивого; ни он, ни она, если бы их попросили перечислить хоть что-то неестественно красивое или просто красивое, не назвали бы, потому что красиво было всё от этого света, и они были красивы, хотя и не глядели друг на друга даже, но в этой их красоте нельзя было усомниться хотя бы потому, что о ней не думал никто особенно, и красиво было то, что они идут впервые вдвоём, и ни его друзья, ни её подруги им не докучают для компании, хотя если бы не они, то и эти двое с самого начала постеснялись бы не то что вместе куда-то идти, а познакомиться друг с другом и даже поздороваться, ибо первое приветствие в компании неловкое для ситуации другой, здесь небрежностью и лёгкостью всегда отдаёт: ах да, привет, привет, но случилось это уже всё на момент тот, и теперь хорошо, что они вдвоём наконец-то, и всё красиво именно потому, что им хорошо, а не скажут они об этому никому, кто спросить их мог бы как раз в силу простого обстоятельства; даже себе не скажут, а как тогда другим сознаться, он теперь это понимает, на крыльце сидя и краску с крыльца бесцельно пальцами отдирая: у неё план был, и она по плану действовала, хотя сама может не ведала о нём, но в любом случае посадки дальние в плане этом роль играли решающую. А в ту ночь лучше было бы затаиться в Саду Сказочном, поскольку в посадках чувство грязности неизбывное имелось, не от кустов этих куцых наверное, более от людей; растения завсегда людей благороднее, животные хуже значительнее, на людей уже повадками походя более, да и обликом своим, хотя наоборот может быть всё и животные здесь не виноваты, но как же теперь после басней про лисиц хитрых и ослов тупых на вопрос этот ответить точно; но в Саду том спокойствие несказанное в предвестии чудес подлинных, что само по себе чудо, это когда впервые там очутились, было сразу явственно; яблоки июльские зеленоватые в Саду спелее, чем где-либо, спелее деревенских собственных и соседских спелее, хотя соседские всё же повкуснее будут, да и охота не столько яблок, сколько дела какого заполучить в зной полуденный, покуда товарищи вечерние кто где, не на улице только и не на речке даже, там невыносимо в полдень и лишь малышня барахтается, воду мутит дно илистое, клубами глина поднимается сначала, будто взрыв какой замедленный атомный грибовидный, но грандиозный, ежели в воду первым незамутнённую ступишь; а яблок они с Олегом нарвали, чему Олег, привыкший к делу такому, мог бы ради напарника своего городского лишь деланно порадоваться, на деле в этих яблоках ничего желанного для себя не усматривая, да и ему, другу его городскому, пришлось бы разыгрывать довольствие, что цели обоюдной достигли, лишь на словах дельной, на деле незначимой, ежели бы не оказался сад тот Садом заливным и до деревьев чтобы добраться нужно раздеться до трусов было, и меж стройных рядов в параллели выращенных яблонь, на возвышенности взрастающих, впадинки канальные образованы, по коим даже плыть можно преспокойно, ибо вода до груди доходит и глубина ровная повсюду; но удивительное самое то, какая вода там прозрачная и тёплая, зеркально сокрытая от ветра любого рядами яблоневыми, и под ней трава и цветы различные видятся-водятся, потому как Олег вспомнил буднично, Сад залили четыре дня назад намеренно, а воду подержат ещё с неделю и спустят вспять, но не успевши договорить, замолкнет, потому как собеседник его рассмеялся смехом безумным воистину и вплавь с головой кинулся, никогда-то Олегу на ум не приходило, что плавать тут можно, лишь за яблоками разве что слазить, вода препятствием досадным представлялась ему, прихотью смотрителевой, который образом таким полив свершает намеренный, реку отлажено заводя к деревьям в гости, но городскому товарищу его всё иначе явилось; усматривая завсегда лишь в природе образец совершенства любого и домыслам человечьим не доверяя особо, ибо не вникал в них, неинтересно и всё тут, увидел теперь сказки воплощение действительной, он никогда о сказке и не заикнулся бы, ибо к тем же домыслам человечьим относил её с печками говорящими и щуками волшебными, но теперь слова иного не нашлось и всё тут, смеётся счастливо и плывёт по саду яблоневому, сказка, лишь вскрикивая и сторожа даже не убаиваясь, к чёрту сторожей и людей всех, даже Олега с яблоками его к чёрту, но Олег удивление своё подавляет и усмиренно в радость дружескую погрузиться через испытание собственное намереваясь, сам вплавь по ряду параллельному устремляется; плывут они так, что меж ними строй деревьев нечастых движется, а под ними одуванчики, подорожник, земляника и даже комочки с лопухами проплывают, иногда чертополох по животу пощекочет, а на сада середине мокрые уже и уставшие, но счастливые, один сам, другой от первого заражаясь, выберутся на холм, по коему ряд деревьев меж ними произрастает, сядут на траву по живот в воде оказываясь всего лишь, и яблоки, тут же, с ветвей нижних сорванные вкушают сочные, и кислые те ещё, сок от яблок этих брызжет во все стороны и хруст при надкусывании случается непременно, а доесть не успеваешь ещё, как они со стороны оборотной уже коричневато заветриваются; и в раз тот недолго были они там, Олег радость хоть поделил, но отнёсся к ней как к баловству какому и сиюминутностью настроенческой разве что к жизни вызванной, но как же не хотелось покидать это Царство Воды и Растений; теперь, ежели Рай как-то представить надо будет, скажем после смерти задание на скорость, говорит ангел: как Рай сможешь представить, так и будешь пребывать в оном, и теряется душа ведь, только с телом рассталась и на тебе, такие решающие вопросы надо отвечать, и нет органов телесных чтобы на нездоровье оных сославшись, ответа избежать требуемого и спать не хочется и не болит ничего, выдумывай Рай, но откуда душе незадачливой такое, вот все и оказываются в аду по части большей; и вот ежели кто теперь из ангелов спросит Рай представить, то так только и не иначе, это он уже затем решил, когда на следующий день здесь один оказался, поскольку Олег яблоки в майку бойцовскую чёрную завернув узелком, спокойно расстался с местом неземным этим, а вечером угощал девочек яблоками кои спелее всех в обычных садах по округе растущих, сам водку ими закусывал, а о чуде не обмолвился ни словом, не схороняя его в сердце воспоминанием дорогим, но вовсе в Саду чудесности не усматривая потому что, и в событиях дневных приключившихся разве можно усмотреть чудесное что привлекательностью своею, и это в деревне, где себя хозяином полновластным ощущаешь, разве что выбивающиеся неприятностями случаи какие, неповиновение там или забил кого по пьяности совместной, это да, интересно, хотя и тоже не чудо, для Олега вообще чудес не бывало и не будет, или ещё девочек всё касающееся, но не сад же водой залитый, а потому назавтра, тоже вечером о Саде не обмолвившись из желания уже схоронить интимнейшее души своей самому, Олега он с собой не брал и один в Саду на целый день остался, никому не сказав где и с кем, никто и не интересовался хотя, а будь так, всё равно не сказал бы, поскольку самое приятное за всю жизнь к тому моменту случившееся в Саду том обретал, и настолько серьёзно отнёсся к прихоти сердца своего изумлённого себе самому, что испугался себя самого, и в Сад как пришёл, плавать сразу и блаженствовать не стал в одиночестве своём, а к сторожу обратился, с трудом отыскав такового, разрешения испросив побыть тут просто, даже яблок не трогая, и сторож, не весьма трезвый к обеду уже или ещё, оказался человеком к просьбе странной такой за жизнь его сторожевую впервые услышанной, миролюбиво настроенным, и даже позволил в пределах, голод насыщающих, яблоки кушать, и умысел был в этом простой и из опыта сноровки охранительной почерпнутый; ежели запретить яблоки срывать, но в саду при этом быть дозволить, следить придётся самому тут же, либо же заведомо при слежения отсутствии, указание невыполнимое давать значит, пусть уж кушает, всё равно воруют, а этот много не съест, тощий уж больно, да и странный всё же, разрешения на побыть просто испрашивает, а посему сторож разрешил всё, яблок вкушение к плаванию присовокупляя, и спать лёг, даже присовокупив просьбу, ежели воры какие покажутся, дойти до него и сказать это, а он, от сторожа выйдя, на день целый пропал в Раю несказанном.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Имя Твоё»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Имя Твоё» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Имя Твоё» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.