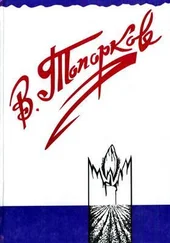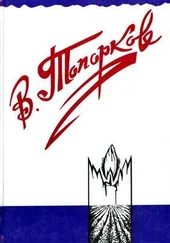Ершов недоуменно вскинул брови, а потом невнятно забормотал о хлопотных делах своих, о забывчивости, за которую убить мало.
— Ладно, про твою короткую память в другой раз поговорим, — прервала его Ирина. — Я практическую сторону в виду имела. Дочери в музыкальную школу поступать надо, а где она у нас?
— Школы нет, но и Светка наша, по-моему, к музыке не очень тянется. Что-то не замечал в ней таких способностей.
— А скажи на милость, что ты замечаешь? Ты в доме постояльцем живешь. Заря из дома выгонит, заря пригонит. Мне уже женщины шутки отпускают — мол, повезло Ирине, у нее каждый раз колхозный агроном ночует…
— Ты на что намекаешь? Разве я зарплату не ношу?
— Зарплата семью не создает, ее люди делают…
Чувствовал Ершов, права во многом жена. Иной человек работает, чтобы жить, а у него, Ершова, жизнь, выходит, только для работы. А с другой стороны, ведь с ним рядом люди трудятся, также себя делу отдают без остатка и о великих благах не помышляют. Только попробуй скажи об этом Ирине, сейчас такой гром загрохочет, не дай боже. Поэтому и молчал Ершов сосредоточенно, ждал, что еще жена скажет. Она и сказала:
— Уеду я, Вася. Больше у меня терпенья нет. Хочешь — поедем вместе, а нет — как знаешь…
И с такой легкостью это сказала, будто не было у них девяти лет совместной жизни, крыши общей над головой, любви. Иринины слова прожгли, что называется, до пят. В семейной жизни все бывает: и разлюбит человек, и устанет от забот, и зачерствеет. А такой спокойный тон предательству сродни. Хотел было Ершов закричать, кулаками по столу забарабанить, да вовремя остановился: понял, что опоздал.
Вот так и остался Ершов один. Положение дурацкое: с одной стороны, Ирина, когда уезжала, ни слова про развод не сказала, не было у них той семейной бури, которая всегда в таких случаях бывает, со слезами да скандалами, а с другой, недаром говорят — дело забывчиво, а тело заплывчиво. Как она там теперь, Ирина? Светка как? За год только два письма и пришло, кисельных каких-то, светский разговор, не более. Писала Ирина, что живет у матери, устроилась на картонную фабрику экономистом, что Светку в музыкалку с трудом устроила — желающих через край, а она, дура, этого не понимает, ей, видите ли, сольфеджио не дается, учится из-под палки. Вот и все. И вернуться Ершова не просила, и никаких проклятий в его адрес не слала.
Вот и Любаха в своем письме об Ирине ни слова, а наверняка встречаются: живут как-никак на одной улице. Сговорились, может быть, а возможно, сестра его тревожить не хочет, одними намеками отделывается, дескать, приезжай, братец, сам на родительский дом погляди, с женой повстречайся, решай свою судьбу. Показалось, что какая-то преднамеренность есть в письме, да ведь об этом только догадки можно строить…
Эх, Ершов, Ершов, по-беспутному как-то ты живешь! Бобыль бобылем! Конечно, можно завтра на колхозе точку поставить — никто тебя в вечной привязанности к деревне клятву давать не заставлял, только как после этого людям в глаза глядеть будешь? В колхозе и так каждый человек на учете, а тут как нож в спину — агроном сбежал! Ирина как-то сказала: стыд не дым, глаза не ест. А что ж тогда ест, позором жжет?
* * *
Ершов заметил: то, что порой ночью больших дум стоит, днем как дым рассеивается. Утром, пока до работы бежал (именно бежал: уснул поздно, и ночь бессонная просто так не прошла — проспал на наряд), пришло простое решение — отпроситься в отпуск, поехать на родину, а потом окончательно определиться: перебираться ли под родительскую крышу или здесь, в Гороховке, холостяковать. Хоть и опоздал Ершов, но на несколько минут забежал в свой кабинет, заявление набросал и уж потом пошел в кабинет председателя.
Николай Андреянович, председатель — мужчина видный, ростом в сажень, плечами двумя буграми, шевелюра черная с проседью, словно поздняя пахота, снежком присыпанная, — видно, уже наряд закончился, расхаживал по кабинету. Это разгуливание — примета недобрая: председатель в настроении дурном, к беседам не расположен. Поэтому Ершов, поздоровавшись, присел в угол, начал к разговору прислушиваться. А говорил Николай Андреянович с прорабом из мелиоративного отряда Первеевым. Был Первеев человеком изворотливым, оборотистым и сейчас наверняка Николаю Андреяновичу «туфту» подсовывал. Любят эти «субчики» несеяное жать, рупь за два отдавать. Поэтому и горячился председатель:
— Ты меня, товарищ Первеев, куда толкаешь? Твои ребята целую неделю бутылки пустые по лугу катали, пили да похмелялись, а я тебе процентовки должен подписывать? Покажи товар лицом, тогда и расчет будет. А то получается, что весь изъян на крестьян. Скажи спасибо, что я твоему начальству не обрисовал ваши художества.
Читать дальше