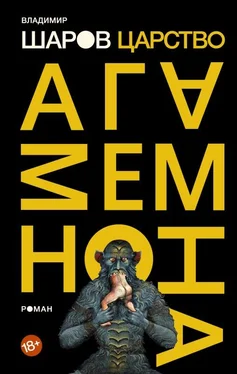А так возражения против того, что говорил Аналоев, у него, конечно, были. Еще гимназистом Жестовский несколько раз ездил в экспедиции с известным фольклористом Поливановым. Летом по два-три месяца жили в небольших деревнях по кромке Белого моря. Тамошние сказания, песни, сама тамошняя речь и уклад жизни настолько увлекли Жестовского, что одно время он даже думал, что, когда окончит гимназию, пойдет учиться на историко-филологический факультет Московского университета. Но после революции они с Поливановым разошлись.
Гражданская война на исходе, белые заперты в Крыму, ровно, где он сейчас пирует с Аналоевым, и ясно, что вопрос месяцев, когда с ними будет покончено. Родители Жестовского еще в России, но скоро, ища место, чтобы осесть, станут кочевать по Балканам. Их сыну проще, но и он успел отсидеть полтора года в каргопольской тюрьме. И всё же всем им, может быть, не исключая и Лидию, еще повезло. Когда старый мир рухнул, под обломками погибло столько людей, что несчастных не искали, никто и не вспомнил, что их хотя бы надо похоронить по-человечески.
В Крыму, обдумывая это, Жестовский пришел к выводу, что современный язык, на котором они до сих пор худо-бедно и говорят и понимают друг друга, как и новый язык, который прямо сейчас несомненно складывается, рождены, выношены совсем не теми, в кого мы тычем пальцем. То есть, если говорить о XIX веке – не Пушкиным и литературой. Пушкин, конечно, принял участие, но не решающее.
Кто настоящие родители и как происходило зачатие, самый его механизм Жестовский потом высказал в большом письме, отправленном Поливанову в двадцать пятом году. Но что-то, наверное, напутал, изложил неубедительно или просто Поливанову не понравилось, что предмет, которым он занимается, зародился на дыбе, в свою очередь новый язык складывается в следственных кабинетах ЧК – из письма Жестовского следовало и одно и другое, – так или иначе, Поливанов почти издевательски его высмеял, и больше Жестовский ему никогда не писал.
И вот после того, что видел в Крыму, после разговоров с Аналоевым и безуспешных поисков Лидии, в поезде, который, кланяясь каждому столбу, тащился и тащился в Москву, Жестовский свое учение о языке окончательно додумал. “Как я понимаю, – говорила Электра, – даже успел записать”. Впрочем, по ее словам, полного варианта в зарайских привозах не было. В следственном деле двадцать пятого года его тоже не оказалось. Только основные положения в томе, предложенном в “Науку”, да упоминания в следственных протоколах других лет.
Насколько могу судить, у Жестовского был грех – семинарист и любитель старославянского, он о некоторых вещах высказывался удивительно пышно. Наука казалось ему последней истиной, оттого всё, ее касающееся, он писал исключительно высоким стилем. Его работа о языке начиналась с исторической справки. В ней говорилось, что злодей, обвинявшийся в самых страшных преступлениях – убийствах, разбое, – даже когда было ясно, что он изобличен и ему не миновать каторги, плетей, а то и казни, мог спастись: стоило тебе объявить Слово и Дело Государево – донести властям, что имярек злоумышлял на царя и его семью, хулил Бога и православную веру, – до выяснения правды расследование твоих собственных преступлений прекращалось.
Если оказывалось, что на сей раз злодей не своровал, не возвел напраслины, что, как было, так и донес, считалось, что государству оказана столь ценная услуга, что обвинения против разбойника снимались – он мог идти куда глаза глядят.
Дальше Жестовский подробно рассматривал всю мизансцену. Четыре участника. Двое на дыбе. Добиваясь истины, их попеременно пытают. Растягивают так, что рвутся сухожилия, хрустят позвонки.
“Тут напомним три вещи, – писал Жестовский:
Первое: иначе не узнать правды, а без правды не может быть справедливого суда.
Второе и третье: земная жизнь есть юдоль страданий, плоть же человека – это напрямую касается и тех двоих, которых сейчас пытают, – дьявольский сосуд, вместилище всех мыслимых грехов, снисхождения она не заслуживает.
Скажем, – продолжает автор, – и насчет третьего участника – палача. Он не дровосек и даже не рука дровосека, он топор, обыкновенный инструмент, который сам по себе тихо лежит и никого не трогает. То есть не он пытает, а им пытают.
Четвертый участник – дознаватель и протоколист в одном лице – служилый человек. Он задает вопросы и, пытаясь понять, кто из двух, растянутых на дыбе, лжет, записывает ответы. Его орудия – бумага, перо и язык московского приказного делопроизводства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу