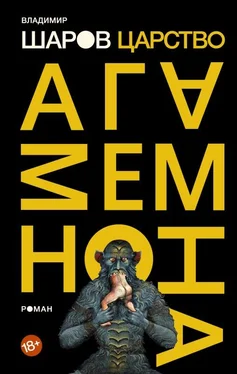В общем, мы свидетели нечеловеческого напряжения конца жизни, страдания, отчаяния и страха. Протокол – будто тигль: в нем идет такая возгонка температуры, давления, что эти ненавидящие друг друга слова не выдерживают, начинают спекаться, сплавляться в одно. Подобное было и при Степане Разине, и при Кондратии Булавине, и при Емельяне Пугачеве. Но потом шаг за шагом запал сходил на нет. Масса языка остывала, успокаивалась. Бо́льшую и бо́льшую роль в нем начинали играть настроения соглашательства и примиренчества, терпимости и всепрощения. В результате язык делался тихим, по-буржуазному благопристойным.
Похожее с домами на одной улице. Они возведены разными архитекторами и в соответствии со вкусами разных заказчиков, и поначалу их прямо трясет от того, с кем приходится соседствовать. Но дома́ ходить не могут, где их поставили, там и стоят, пока не развалятся, оттого со временем они друг с другом как-то договариваются, сживаются, смотришь – уже обыкновенная улица”.
Дальше Жестовский возвращался к своему товарищу по семинарии, писал: “В недавнем прошлом чекист, а ныне член ревтрибунала Черноморского флота, Аналоев убежден, что грех самовозрождается, еще верней, самозарождается в пролетариате. Оттого чистки в среде рабочего класса необходимы вплоть до готовности коммунизма”. В его словах много правды, продолжал Жестовский, и объяснял, что та почва, на которой вызревает оппортунизм, есть почва старого языка – уйдет он, а с ним и измена общему делу. Затем следовал подробный разбор, почему так. Жестовский говорил о мелкобуржуазности старого языка, всех его понятий, представлений о жизни, о том, как она должна быть устроена, что в ней правильно, хорошо, а что неправильно и плохо. Что важно, а что нет.
“Ясно, что контрреволюция на этой почве пухнет, как на дрожжах, – замечает Жестовский и продолжает: – А что делать бедолаге-пролетарию? Он был бы и рад не пользоваться старым языком, но другого-то нет”.
Ниже Жестовский даже усиливает свои обвинения против языка, которым по привычке продолжает пользоваться рабочий класс. Называет его “агар-агаром и питательным бульоном контрреволюции”. Некоторые обвинения звучат очень радикально. Жестовский пишет, что язык, на котором мы говорим, весь насквозь есть контрреволюционная пропаганда. Оппортунизм в каждом слове, которое мы произносим, и в каждом, которое слышим. Немудрено, что тотальная обработка многих ломает, не застрахован и самый стойкий партиец, убежденный ленинец. Однажды и он может свалиться в болото соглашательства.
Из подобного понимания дел прямым образом вытекала другая мысль Жестовского, для него, как я полагаю, главная. Если язык, на котором испокон века говорит народ, напрочь заражен контрреволюцией, и пролетариат, решивший идти в коммунизм, не может, не имеет права его использовать – коммунизм с ним просто не построишь, – а другого языка на примете нет, важнейшей задачей партии большевиков, вопросом жизни и смерти для нее становится создание нового языка рабочего класса. Языка во всех смыслах классово выверенного и насквозь революционного.
Тут же разговор переводится в практическую плоскость. Как и из чего его варить. Человек, в сущности, консервативный, Жестовский убежден, что от добра добра не ищут. В качестве тигля для выплавки отлично подойдет тот же самый протокол допроса, что велся, когда расследовались преступления, связанные со “Словом и Делом Государевым”. То есть тигль берем какой есть, тут ничего изобретать не надо; как показало время, он работает лучше некуда; другая история состав шихты – руда, уголь, разного рода добавки, которые облагородят сталь языка, сделают ее более прочной, тут необходимы коренные изменения. Ясно – почему.
При царе Горохе правда была на стороне тех, кто выступал против сатанинской царской власти. Сейчас не так. Теперь нами правит истинно народная, истинно пролетарская власть, которая верной дорогой ведет народ в светлое будущее.
Здесь Жестовский снова вспоминает севастопольского чекиста и прокурора.
“Конечно, любой белогвардеец, пишет Жестовский, всей своей прошлой жизнью заслужил пулю в затылок. В то же время, когда таких, как он, без суда и следствия тысячами ставят к стенке, мы имеем прямое пособничество контрреволюции. Разбазаривание, бездумное транжиренье ресурсов. Потому что твое понимание своей вины, твое историческое и личное раскаянье перед народом, полная безоговорочная капитуляция перед ним – при правильном ведении следствия то и то неизбежно и так же неизбежно окажется в протоколе допроса любого белогвардейца – есть искомая благородная добавка, без которой не сваришь настоящей стали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу