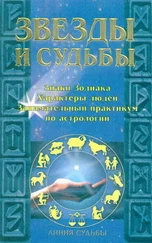И заволокло на секунду от меня лицо маньяка туманом от сгоревшего пороха. Только ноги богомола дёрнулись синхронно и замерли, расслабленно отвалившись в стороны. И всё тело его обмякло и остановилось. Он больше не уворачивался и не елозил по полу. Потому что под его правым глазом, теперь окончательно потухшим, появилось аккуратное чёрное отверстие, которое теперь немного портила вытекающая оттуда густая тёмная кровь.
— Проверь, — кивнул я Мантику, продолжая держать тело Бондаренко на мушке.
Доктор в молчании присел на колени, вставил в уши крючья стетоскопа, приложил круглую, колющую искрами бликов шайбу к груди маньяка, стараясь не пачкать её о багровые, набухающие влагой утекающей жизни, места на майке. Поводил туда-сюда, прислушиваясь. Усомнился и вновь принялся выискивать признаки жизни. Потом поднял ко мне лицо, и я уже знал, что он скажет.
— Слышу сердцебиение…
— Вот чёрт… — вырвалось у Зайцева.
— Назад, — скомандовал я, уже немного свирепея.
Потом тоже встал на колени и без лишних раздумий приложил дуло пистолета с последним патроном в недрах к его зобу, параллельно грудине, так, чтобы пуля прошла через язык, нёбо, прямиком в середину мозга. Вдавил поглубже и выстрелил. Тело Бондаренко резко дёрнуло, словно я его током ударил. Руки и ноги всплеснули, как у марионетки, которую встряхнули за нити. Но свод черепа не оторвало.
Я встал, а Манин вновь начал выискивать сокращения сердечных мышц. Я подумал, что это уже начинает выходить за рамки трагедии, превращаясь в нелепый фарс, потому что если он опять оживёт, то мне придётся идти обратно за новыми патронами. Но чуда не случилось, насекомое не ожило. Ведь это был не червь с десятью сердцами. Это был богомол, которому всё-таки размозжили голову. И он, как положено, умер.
— Умер, — сказал Мантик, сворачивая стетоскоп. — Наконец-то.
— Это хорошо, — облизал я губы. — А то у меня патронов с собой больше нет. Идём отсюда…
И первым двинулся по тускло освещённому коридору своего персонального царства теней и лабиринта испуганных, побитых недоминотавров. Как полновластный повелитель этого скорбного и безнадёжного места. Не обращая внимания на топающих сзади членов заплечной команды, я прислушивался к своим внутренним ощущениям, как больной или раненый прислушивается к ноющей конечности или органу. Не даст ли он о себе знать острым неожиданным уколом, не дёрнет ли изнутри, не проснётся ли и заноет непрерывно, то усиливая, то спадая, но, не прерываясь ни на миг, как вцепившийся клешнёй краб. Однако лев мой молчал и не двигался. Не поднимал усталые веки, не бил раздражённо хвостом. Не скалил жёлто-бурые сколотые зубы. Он прикорнул в глубокой безмятежной дрёме, готовой перейти в полноценный крепкий, глубокий и здоровый сон. Он был загорожен прочной твёрдой стеной, гасившей все звуки извне. Он был глух и пассивен. Он смирился с лабиринтом внутри меня, кропотливо и настойчиво возведённым моим жемчужным скорпионом.
Когда Бондаренко попал мне костистым кулачком в бровь, ослепив и напугав, принеся короткую резкую вспышку боли, я на мгновение испугался. Как и любой человек на моём месте. Ведь все непроизвольно пугаются, когда им прилетает по лицу. И в этой вспышке страха зародилась маленькая злость. Она тут же раздулась, переходя в полноценную, но спокойную и подконтрольную ярость. Страх послужил детонатором, запальным ядерным зарядом, породившим термоядерный синтез ярости. Только это был холодный термояд. Я успел за то короткое мгновение, пока казнимого унесло стихией потного восторга избиения вглубь душевой, собраться и почувствовать то тёмное удовольствие от предстоящего возмездия за нанесённый лично мне страх. И немного за боль. Почувствовать азарт самой увлекательной охоты — охоты на человека. Её последней, завершающей, кульминационной стадии. Когда нелюдь, зверь, выродок загнан в ловушку, в угол, когда он бессилен, стреножен и уже не мобилен. Когда в его голубых глазах уже плескается половодье заливающего его душу страха, топящего и гасящего огоньки азарта битвы, язычки безнадёжной отчаянной ярости, островки последней надежды на чудо спасения. Превращая всё это в пепелище безнадёги и обречённости, затвердевшую лаву оцепенения и покорности неизбежному. Серость тусклых глаз, увидевших, наконец накрывшую их тень приближающейся смерти.
И пули я всаживал с наслаждением, не целясь никуда специально, только желая принести ему побольше боли и выбить всю агрессию, как выбивают противную душную пыль из старого ковра. Хотел, чтобы он не помер сразу, а видел и понимал, что умирает. Чувствовал в полной мере свою агонию. И обмирал от ужаса перед ней. Видел меня, как длань карающую, как десницу судьбы, как неумолимый рок, персонализировавшийся в подполковника Глеба Людобоя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу